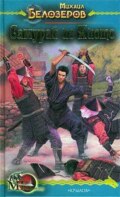Михаил Белозёров
Великая Кавказская Стена. Прорыв 2018
– Сиди! – приказал Игорь, подполз к стене и выглянул в дыру, которая образовалась после взрыва гранаты.
– Я не знаю, на что ты надеешься, – проворчал Олег Вепрев, оказавшись рядом, – всё равно нас никто не выручит.
Игорь подумал, действительно ли Севостьянихин такой, как решил Олег. Нет, суждения эти неверны, просто он ищет решение, если, конечно, ему сообщили, что они здесь застряли. А когда найдёт, то сделает всё правильно. Я бы ударил техникой напрямик: через проспекты Калинина и Октября. Наверняка все боевики стянуты сюда.
– Терпение, мой друг, терпение, – сказал он так, что Олег Вепрев странно посмотрел на него и, кажется, что-то сообразил, но спорить не стал. Не хотелось ему, видите ли, спорить. Остался он при своём мнении, и Игорь понял, что Олег Вепрев всё равно пойдёт и взорвёт этот чёртов бронетранспортёр, который мешал жить. А еще он понял так: в таком деле, как война, случается всякое и чаще самое плохое, поэтому надо быть готовым к самому худшему.
Боевики теперь не высовывались, они осторожничали. Их вообще не было видно. Даже самые отчаянные не шныряли по двору в поисках трофеев.
– Наверняка что-то затеяли, – предположил Олег Вепрев, тоже выглядывая наружу.
Однако Игорь ошибся: на втором этаже появился дух. Это был зелёный боевик, которому война была ещё интересна и которому, наверное, ещё нравилось убивать. Игорь снял его одной очередью: «Тр-р-р…» – и они с Олегом Вепревым быстренько покинули то, что когда-то было аудиторией по информатике: разбитые компьютеры были разбросаны по полу. Снова начался обстрел – вначале из легкого оружия, а потом присоединился бронетранспортёр. На этот раз он зашёл с тыла и принялся долбить лестничные пролёты. Боевики внизу подбадривали себя:
– Аллах акбар! Сдавайтесь!
Крупнокалиберный пулемёт стрелял безотрывно: «Ду-ду-ду-ду-ду…» Пули крошили потолок и стены. Игорь и Олег Вепрев вовремя переползли в коридор, но и сюда периодически с визгом залетали осколки. Боевики сунулись под шумок, полезли по центральному проходу, но Игорь бросил две гранаты, и боевики отступили.
Олег Вепрев подозрительно долго молчал, затем вдруг покраснел и закричал:
– Бляди, бросили нас здесь! Пойду и грохну его!
– Стой! – кричал Игорь. – Убьют!
– Отойди! – кричал Олег, хватая гранатомёт.
Несколько мгновений они боролись. Шансы у Игоря были никчёмные, он получил удар в челюсть и на секунду отключился, а когда пришёл в себя, Олег уже лез по металлической лестнице на чердак.
– Стой, дурак! – крикнул Игорь.
Но Олег только оскалился в ответ и пропал в чёрном люке. Самого взрыва Игорь не услышал, просто пулемёт захлебнулся на высокой ноте, и наступила тишина.
Сколько прошло времени, Игорь не помнил. Боевики снова начали кричать:
– Аллах акбар! Аллах акбар! Поджарим!
Потянуло запахом горящей солярки. Дышать стало нечем. Игорь пополз к оконному проёму. Из соседнего здания выстрелили: граната пролетела через весь этаж и взорвалась, попав в перегородку.
Дальнейшее Игорь помнил плохо. Единственно он понял, что его отбросило в аудиторию и с лица сорвало повязку.
* * *
В соседней комнате ходили боевики и добивали раненых.
– Аллах акбар! – радостно кричали они после каждого выстрела.
Игорь пошевелился, приходя в себя. Он вспомнил, что у него в кобуре пистолет, потянулся, превозмогая страшную слабость, и не нашел оружия. Не было на ремне кобуры, её словно срезало. Тогда он вспомнил, что у него осталась граната. Специально оставил для себя. Не израсходовал, и это было хорошо. Достал её из клапана на груди и потянул кольцо.
В этот момент появился боевик. Кольцо не поддавалось. Игорь тянул изо всех сил. То ли усики сильно загнулись, то ли сил не было, только он не сумел выдернуть кольцо.
Боевик, который вначале испугался, всё понял, поднял автомат, но вместо того, чтобы выстрелить, вдруг стал заваливаться вперёд. В глазах у него промелькнуло страшное удивление, и он упал лицом вниз, изо рта у него брызнула струя крови. Только тогда Игорь услышал бешеную стрельбу, а потом в комнату шагнул майор Севостьянихин Андрей Павлович, улыбнулся и сказал:
– Чего ты здесь валяешься?! Вставай! Мы за тобой приехали!
Из-за его спины радостно выглядывали Герман Орлов и Лёва Аргаткин:
– Ёпст!!! – заорал Герман Орлов.
– Смерть тараканам! – отсалютовал Лёва Аргаткин.
– Ну чего скалитесь? – одёрнул их Севостьянихин. – Взяли да понесли!
Его гениальный нос на этот раз был единодушен с хозяином и всецело одобрял его действия.
Глава 8
Попался
Он поймал её перед лифтом в тот момент, когда она собралась ехать вниз. Коридор был пуст: журналистская братия праздновала по номерам и барам. Слышались пьяные голоса и заразительный смех. В любое другое время Феликс с удовольствием присоединился бы к одной из компаний и, быть может, даже при случае забрал бы должок у Глеба Исакова. Давно он ждал случая. А Глеб Исаков ему много должен: за ту же самую Лору Гринёву, за «военный отдел», за то, что имеет неприятные манеры, и за то, что он вообще существует на белом свете. Какого чёрта, спрашивается, ты портишь воздух? Естественно, Феликсу никто ничего ответить не мог. Не существовало ответа на такой глупый вопрос.
– Что?! – воскликнула она. – Пять триллионов! Но ведь это третья часть долга США! – и улыбнулась так, что его бедное сердце встрепенулось, словно в последний раз.
Нет, это была даже не любовь, это было нечто грандиозное, чему ещё не придумано название.
– Ц-ц-ц… – приложил он палец к губам и оглянулся – коридор был пуст, а камеры, которыми была напичкана гостиница, слава богу, не писали ни звука.
Он проверил своё лицо: оно должно было отражать невозмутимость и уверенность в завтрашнем дне, а не жалкие потуги влюбленного пингвина. Нельзя, нельзя было давать Гринёвой ни преимущества, ни единого шанса. Но, похоже, она в этом и не нуждалась.
– Но это же третья часть! – повторила она слегка ошарашенно.
Любого другого тоже ударил бы столбняк, только не Лору Гринёву. Феликс даже залюбовался. Она была всего лишь слегка ошарашена и переваривала новость одно-единственное мгновение, а потом её лицо снова приняло насмешливое выражение, и в глазах заплясали чёртики.
Действительно, подумал Феликс, всё ещё контролируя свою мимику, есть отчего испугаться. Я бы тоже не поверил, но, с другой стороны, легче купить, чем воевать. А что деньги? Деньги пыль! Деньги ещё напечатают. Где те деньги, за которые продали Аляску? Всё превратилось в историю, а Аляска осталась. Хитрый мистер Билл Чишолм. Очень хитрый. Я бы так не сумел, а американцы сумели, поэтому я ими очарован. Очень дальновидная нация. Нам бы у них поучиться. Господи, чего я говорю?! – подумал он.
– Да, третья часть, – согласился Феликс, ещё не вполне осознавая масштабность происходящего.
Пока новость существует как бы за горизонтом событий и не материализовалась в грандиозный скандал, не спроецировалась на президента, не всколыхнула страну, пока она «дремлет», как тикающая термоядерная бомба, трудно понять её значение со всех точек зрения. Вышло так, что этот вопрос отдавался на откуп СМИ и народу. Что скажет народ, то и будет. Может быть, некоторые СМИ после этого заткнутся на веки вечные, а «пятая колонна», к которой я себя причисляю, подумал Феликс, вымрет, как динозавры. На какое-то мгновение он пожалел о том, что делает. Но отступать было поздно, ибо прекраснейшая из прекраснейших – Гринёва не поняла бы его и запрезирала бы его так, что не подпустила бы на пушечный выстрел. Дело было сделано. Пан или пропал!
– Значит, они сделали это?! – она схватила его за руку, и его словно током ударило.
Это уже была игра на его слабостях. Как правило, обычно он был ведущим, а здесь едва успевал реагировать. Впрочем, она тут же сделала вид, что лёгкий флирт ни к чему не обязывает: подумаешь, Феликс Родионов. Да таких журналистов пруд пруди. На пару секунд ему стало обидно, а потом он подумал, что, быть может, это залог прекрасного будущего, к которому он подспудно стремился, но до сего дня не понимал своего счастья, и вдруг ему открылась истина, что счастье – это очень простая вещь, вот оно, рядом, в виде Гринёвой, и слегка окосел от просветления.
– Да, они сделали это! – кивнул он через силу и сглотнул слюну.
От неё пахло сигаретами, губной помадой и алкоголем. К тому же она дергалась, как заведённая, и её рыжая чёлка взлетала, как облако. Ещё мгновение, и он, не в силах сдержаться, полез бы целоваться.
– Феличка, ты гений! – махнула она рукой, но так, словно он был всего-навсего надоедливой мухой.
– Ну не без этого… – скромно потупился Феликс, хотя ему сделалось чуть-чуть обидно, но это приятная и сладостная обида.
Молодец, моя девочка, моя муза, моя любовь, моя судьба, самозабвенно расчувствовался он, но, естественно, промолчал, ибо был великим стратегом по части любви и знал, что надо держать язык за зубами, потому что ни одна крепость не сдаётся без планомерной осады. Он понимал это умом, но не сердцем, и его мучил краеугольный вопрос: «Почему она легла со мной в постель? Почему?» И боялся думать, что действительно по любви. В жизни так не бывает, страдал он, только в кино и только в сказках. Как он хотел, чтобы сказка оказалась былью.
– Но это же мировая сенсация! – Она сразу всё поняла. Она была хорошей журналисткой и всё ловила на лету.
Её аналитический аппарат превосходит даже мой аналитический аппарат, восхитился он до умиления и слегла прослезился. Она создана, чтобы делать политику и купаться в политике. Мы будем отличной парой, если не убьём друг друга в постели.
– Да, – сказал он, наполненный до краёв собственной благодарностью, – я дарю её тебе, – и незаметно сунул ей в ладонь флешку.
Дверь открылась, и они, держась за руки, как примерные дети, вошли внутрь. Кабина оказалась пустой. Феликс тут же решил воспользоваться ситуацией, но наткнулся на продуманную оборону, состоящую из локтей, предплечий и прижатого к груди подбородка. Он отступил и вопросительно уставился на неё.
– Но ведь мы же уже?.. – вопросительно сказал он.
– А ничего не было… – огорчила она его, поправляя прическу. – Ты, Фелюшенька, был мертвецки пьян.
– Не может быть, – удивился он. – То есть я могу быть мертвецки пьян, но шанса своего не упускаю.
– Это не тот случай, – снова огорошила она его.
– Ты меня разыгрываешь? – уточнил он.
– Нисколечко, – холодно ответила она.
Её игра губами стоила ему нескольких седых волос, испорченной печени и излившейся желчи, а лицо у него непроизвольно дёрнулось с правой стороны, словно у него началась невралгия троичного нерва.
– Тогда я ничего не понимаю, – отступил он и забыл, что лицо нужно контролировать во что бы то ни стало, словно это был последний редут, сдав который, не имело смысла жить.
– Я тоже ничего не понимаю, – согласилась она, глядя на него, как мадонна на неразумного дитятю.
Но ведь мадонны на то они и мадонны, чтобы быть любовницами в жизни, подумал Феликс:
– Так не бывает…
– И на старуху нисходит проруха, – призналась она беспечно, подув на свою волшебную чёлку. – Но!.. – и брови её взметнулись вверх.
– Иди ты знаешь куда! – разозлился он, потому что впервые попал с женщиной в неловкое положение.
Вот что значит спать с собратом по перу: слова не даёт сказать. Язычок у неё острый, как бритва.
– Упустил ты свой шанс, Фелюшенька, – подразнила она его и подула на свою шикарную чёлку.
– Не называй меня так, – попросил он почти что слёзно.
– А как тебя называть? – она посмотрела на него, широко распахнув глаза.
– Но ведь… – пропустил он мимо ушей шпильку, – ещё можно что-то исправить?
– Второй попытки, как в спорте, не бывает.
– Я не напьюсь, – скромно пообещал он.
– А стоит ли таких жертв? – спросила она и снова подула на свою шикарную чёлку.
– Конечно, стоит! – воскликнул он так, что она поморщилась, как при виде дохлой кошки.
На него словно столбняк напал. Он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Всего-то делов, думал он так, как привык думать, но почему-то окончательно оробел. С такой продуманной обороной он ещё не встречался: Гринёва снова обвела его вокруг пальца, выскользнула, как угорь из пальцев, она словно читала его мысли и опережала на полшага, а в её глазах прыгали чёртики смеха. Ведьма, подумал он, точно, ведьма. Страх, который оставил было его, всплыл откуда-то из-под сознания, и он снова стал один-одинешенек во всей вселенной, никому не нужный и совсем пропащий, хоть бери да вешайся.
– Я не могу принять твоего предложения, – сказала она и гордо протянула ему флешку.
– Почему? – спросил он упавшим голосом.
Всё, что он возводил с таким трудом, рушилось в одно мгновение. Сердце падало, как в скоростном лифте. Ему казалось, что он заслужил благосклонности.
– Потому что это то, что бывает в жизни один раз, – вдруг абсолютно серьёзно объяснила она.
Вот это принципы! – восхитился он и предложил:
– Давай поделим славу пополам. Всё равно тебе придется упомянуть меня как источник информации. К тому же надо будет объясняться с очень серьёзными людьми.
Он почему-то вспомнил мистера Билла Чишолма и подумал, что теперь им не по пути и что мистер Билл Чишолм обязательно предъявит претензии и что надо сделать всё, чтобы он их не предъявил.
– Я подумаю, – сказал она, загадочно блеснув улыбкой.
– А чего здесь думать?! – удивился он, полагая, что всё в жизни, за редким исключением, надо делать быстро, ибо обстоятельства в этой жизни быстро, если не мгновенно, меняются.
Переспи я с ней на самом деле, она бы не так пела, подумал он со странным ожесточением к самому себе, но не был уверен в собственных выводах.
– Боюсь, что на нас спустят всех собак, – сказала она небрежно.
И вмиг стала серьёзной – такой, какой она, должно быть, бывала в больших кабинетах, где сидели толстые, задастые дяди, правившие этим миром. А вся её напускная бравада – всего лишь защитная форма, чтобы выжить в суровой журналистской действительности. У Феликса не хватило слов: оказывается, такой, именно такой он любил её ещё больше всего. Однако, к своему ужасу, он понял, что это всего-навсего демонстрация пакта о ненападении, не дающего никакого преимущества. С другой стороны, надежда говорила, что половина дистанции пройдена, и он тут же подумал, что в очередной раз ошибся, ибо не видел финиша. Финиш был где-то за горизонтом, в далёком будущем, до которого надо было ещё топать и топать.
– Им будет не до нас, – заверил он её, хотя сам не был до конца уверен.
И вообще он даже себя не слышал, ему казалось, что вместо него говорит кто-то другой. Мстить будут, понял он, страшно и мерзко мстить. И проверил своё лицо. Оно было печально-кислым, таким кислым, словно он жевал шнурок от ботинок.
– Вот то-то и оно, – серьёзно сказала Гринёва, словно угадав его мысли, и стала ещё прекраснее и недоступнее.
Он так и не понял, уговорил её или нет. Кабина мягко дёрнулась, двери открылись, и в неё ввалилась компания, состоящая из Глеба Исакова, Норы Джонсон из «USA Today» и Александра Гольдфарбаха из журнала «Wired». Все навеселе, все на взводе, всех водой не разлей, все словно в мёде сахарные, а на деле волки волками – только бы урвать своё, только объегорить кого-нибудь и проехаться за чужой счёт. Почуяли сенсацию, понял Феликс. Сейчас пытать начнут всякими доступными и недоступными методами.
Александр Гольдфарбах полез обниматься:
– Феликс!!!
Это был неприятный еврей, высокий, костлявый, с длинными волосами, как у Джонни Деппа, с манерами из той «совковой» системы, которую Феликс ненавидел и презирал всеми фибрами души. Должно быть, поэтому Гольдфарбах и приглянулся Березовскому, потому что не давал забыть СССР. Ко всему прочему он лысел на затылке и мазался какой-то вонючей дрянью. Однажды Феликс застал его, ухаживающего за своей шевелюрой. Гольдфарбах не растерялся и счёл нужным объяснить, что это японская настойка из перцовых водорослей, которая стимулирует рост волос. Но кажется, она ему не помогла, потому что кое-где сквозь немытые волосы просвечивал череп, как глина сквозь водоросли в реке.
– Хватит! – едва отбился Феликс, брезгливо вытирая рот. – Ещё подумают чёрт-те что!
– И пусть думают! – согласился Александр Гольдфарбах, весьма довольный собой.
В Лондоне они почему-то напились в одном издательстве и продолжили у какого-то богатого дяди на ферме под Лутоном, долго болтая под мелким дождиком о проблемах России и всего мира, и чувствовали себя вершителями этого самого мира. Только он об этом даже не подозревал. Александр Гольдфарбах учил Феликса жизни. В те времена Феликс считал это само собой разумеющимся. Ему льстило, что акула пера «гвоздевой» английской журналистики, особо приближенный к Березовскому, возится с простым студентом, пусть даже этот студент и весьма талантлив. Быть может, гадал он, всё дело в мистере Билле Чишолме? Как ему хотелось, чтобы его любили просто за красивые глазки. Оказывается, в мире политики так не бывает. Только преданные женщины готовы любить тебя таким, какой ты есть.
Нору Джонсон и представлять не было нужды. Это была звезда политического олимпа Потомака. Чёрная, как индианка, сложенная, как фотомодель, правда, уже пережившая свои лучшие времена. Но, тем не менее, смотрящаяся весьма-весьма даже очень, если не обращать внимания на лицо, которое после многочисленных операций больше напоминало посмертную маску, чем что-то живое. Единственное, что его оживляло, – гневливая морщинка между бровями. Остальное всё было лаковое и блестящее, как фарфоровая чашка.
Впрочем, Нора Джонсон так часто появлялась на экранах Америки, что взгляд невольно вырывал её из толпы. Уж ей-то не надо было никуда карабкаться и работать локтями. А слово «карьера» уже не играло для неё никакой роли. Её имя была вписано золотыми буквами в историю американской журналистики. И вдруг – бах! – она здесь, в Имарате Кавказ, разговаривает с Феликсом Родионовым и что-то от него хочет. Событие знаковое, из ряда вон выходящее. Только причина непонятна. Это всё равно, как если бы Билл Гейтс выбрал на Бродвее первого встречного-поперечного и стал бы с ним болтать на тему «СПИД и финансирование». Каково было бы изумление публики? Что бы они подумали? Что Билл Гейтс сошёл с ума?
Неужели здесь так раскочегарят, что Америка бросила сюда лучшие силы? – очень удивился Феликс. Значит, секрет Полишинеля? Значит, Рыба зря старался? Значит, слетелось вороньё? И должно быть, американцы хорошо осведомлены. Это мы из всего делаем военную тайну. А надо быть проще и открытее, и тогда люди со всего света потянутся к нам и безумно полюбят нас всей душой и телами. И всё же кое-чего они не понимали, иначе бы не жаждали выпить в компании малоизвестных русских журналистов, которых в глубине души наверняка презирают и намереваются обвести вокруг пальца. А недоносок Глеб Исаков туда же. Ох, дай мне стать начальником «военного отдела», ох, дай, шкуру спущу. В этот миг Феликс совсем забыл, что никакого «военного отдела» ему не светит, как не светит «Единогласию» дальнейшее существование. И хотя он считал Россию, пропахшую нафталином и серой, никуда не годную и, по сути, давно развалившуюся, самым диким и гнилым местом, в нём вдруг взыграли национальные чувства. Русский я, в конце концов, или не русский, или обычный жополиз? – спросил он сам себя. И, к своему удивлению, не нашёл ответа. Не было его там, куда он заглядывал, а была вечно непрекращающаяся игра страстей и чувств. Обидно ему стало и горько на душе: получалось, что он сам себе уже не принадлежит, что за него думают, что всё уже определено, что он давно лёг, как вся страна, под мистера Билла Чишолма, а в его лице – под всю Америку. Ох, и тяжек груз оказался, ох, и тяжек!
– Hi! – заорала Нора Джонсон, изображая на посмертной маске неискреннее восхищение. – I heard that you are the best «nail» journalist in all of Russia?[58]
– Это слегка преувеличено. Но я действительно не только самый лучший и хитрый «гвоздевой», – с ухмылкой оглянулся он на Гринёву, – но и самый умный «гвоздевой».
Лора Гринёва закивала головой в знак подтверждения и высокомерно подула на свою чёлку, которая взлетела и опустилась рыжим облаком. Ей тоже с первой минуты не понравилась Нора Джонсон, а американцев она точно не любила. По сравнению же с мировой звездой она выглядела лёгкой, изящной принцессой, у которой вся жизнь впереди. К тому же у неё на руках был такой козырь, о существовании которого они подозревали, но точно не знали, как он выглядит, иначе бы вытащили, как заправские пираты, ножи и пистолеты. На одно короткое мгновение Феликс забыл, где находится и что делает. Его рука в знак благодарности нашла талию Гринёвой, и эта осиная талия была божественна и неповторима. А ещё ему страстно хотелось её поцеловать, защитить от этих падальщиков и затащить к себе в номер, но удобного момента, естественно, не представлялось. Может быть, потом, когда она окончательно поймёт масштабы происходящего и ослабнет? Впрочем, придётся ещё обговорить насчёт флешки, вспомнил он и страшно огорчился, потому что Лора сделала неуловимое движение и ловко вывернулась из его объятий.
– Ну если ты самый-самый… – сказал Александр Гольдфарбах, глядя на него сверху вниз, – то просвети нас о грядущем наступлении.
Его кудри в люминесцентном свете ламп казались искусно сделанным париком. Должно быть, что-то изменилось с тех пор, как Феликс видел его последний раз.
– Если бы я знал что-нибудь больше вас, – хитро ответил Феликс, – то уж, конечно же, не попёрся в такую глушь, а обскакал всех, не выезжая из столицы, ибо я действительно самый-самый.
– Bravo! Bravo! One oh! – обрадовалась Нора Джонсон. – But you will surely have something to hide from us. You are very clever, Felix[59].
– Я чист, аки ангел, – потупился Феликс.
– Греха! – хохотнул Александр Гольдфарбах, и его длинные волосы спутались, как пакля.
– А не обсудить ли нам это за бутылкой водки? – не к месту предложил Глеб Исаков.
Но на него почему-то никто не обратил внимания.
– Что нового сообщили вам наши пулицеровские лауреаты? – не без внутреннего надрыва спросил Александр Гольдфарбах.
Феликс внимательно посмотрел на него, ничего не понял и удивился:
– Кто?
Нарочно или нет, но Лора Гринёва вдруг оказалась между Норой Джонсон и Глебом Исаковым. Сердце Феликса ревниво заныло. Никакой благодарности. Ему пришлось напрячься, чтобы понять вопрос.
– А не обсудить ли нам это за бутылкой водки? – снова предложил Глеб Исаков.
На него снова никто не обратил внимания, словно в компании Александра Гольдфарбаха и Норы Джонсон он играл роль пустого места.
– John Kebich and Victor Bergamasco, – сказала Нора Джонсон, и её гневливая морщинка была единственным, что ожило на её лице.
– А-а-а… эти… – сделав равнодушный вид, произнёс Феликс. – Я не знал. А что они натворили?
Глеб Исаков радостно потрясал бутылкой водки и бутербродами с колбасой и походил на доморощенного клоуна, из рукавов которого выпадают разные загадочные вещи. Ему не терпелось напиться. Такова была его природа. Он кодировался и расшивался, кодировался и расшивался, и этому не было предела: череда взлетов и падений, ключицы у него тоже не было, сломал он ключицу в пьяной автоаварии. И вдруг Феликсу показалось, что это уже было, что они ехали в этом лифте: Глеб Исаков потрясал бутылкой, Александр Гольдфарбах смотрелся голенастым аистом, а старуха Нора Джонсон ревновала юную Гринёву буквально ко всем мужчинам.
– John Kebich came up with a character eight addict[60], – сказала она осуждающе.
– Это большое прегрешение, – через силу согласился всё ещё расстроенный Феликс.
Лифт остановился, и они оказались в холле. Гринёва по-прежнему делала равнодушный вид и беспечно болтала с Глебом Исаковым, который вился вокруг неё, как комар, почуявший кровь. Значит, это игра? Значит, она меня не любит? – думал Феликс, не смея взглянуть в их сторону. Кровь отлила у него от лица, кожу словно стянуло алебастровой маской.
– А не обсудить ли нам это за бутылкой водки? – в третий раз предложил Глеб Исаков.
Он старался не глядеть на Феликса. Лицо его было угодливым и льстивым. Феликса передёрнуло. Вот кто остался в прошлом веке, вот кто настоящий «совок», ибо, несмотря на «новую свободу» и «журналистику без оглядки», он всего боялся. Боялся ступить не так, боялся сказать лишнее слово. Поэтому больше глубокомысленно молчал, а если и выражался, то короткими, рублеными фразами. На начальство это производило огромное впечатление, оно почему-то решило, что за этим скрывается большой ум. Феликс же раскусил этого угодника в два счёта, как только первый раз увидел его. Глеб Исаков умел вызывать к себе сильное чувство неприязни. С тех пор это чувство в Феликсе не уменьшалось, а наоборот, только возрастало. И конечно же, он теперь мог с превосходством смотреть на своего врага, ибо враг этот не знал своего даже ближайшего будущего, а Феликс знал, и знал, что надо делать.
– А что натворил Виктор Бергамаско? – спросил он, чтобы только отвлечься, чтобы только не мучиться неразрешимым вопросом в отношении Гринёвой и Глеба Исакова.
Гринёва подула на чёлку и сотворила очередной фокус с рыжим облаком. Сердце у Феликса сладко ёкнуло. Рыжая чёлка сводила его с ума. Рыжая чёлка была вершиной совершенства. Рыжая чёлка была вестником его преждевременной смерти от гепатита А.
– Он придумал английского солдата, застрелившего подростка в Белфасте, – с разоблачительными нотками в голосе сообщил Александр Гольдфарбах и нагнулся, чтобы заглянуть Феликсу в глаза и проверить его реакцию.
Феликс ответил жёлчно:
– Я умилен, – любил он так поддеть, когда собеседник оказывался в слабой позиции.
– Чему? – не понял Александр Гольдфарбах и уставился на него, как профессор ботаники, то есть абсолютно бессмысленно, осуждая Феликса с точки зрения непонятно какой морали, но уж точно не христианской, ибо в Библии сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Они на своём Западе или слишком наивные, или мазохисты, впервые с неприязнью подумал Феликс. Да у нас таких фокусников пруд пруди. Нет, конечно, они не пулицеровские лауреаты, попроще, но тогда получается, что вся западная журналистика ничего не стоит, что она построена на лжи и лицемерии, что они прошли свою часть пути и теперь пытаются учить нас жизни.
Примерно об этом Феликс и сообщил Александру Гольдфарбаху, заставив его погрузиться в тягостные раздумья.
– Нет… – озадаченно сказал он через минуту, – почему же? Мы очищаем свои ряды…
– In our instinct of self-preservation[61], – заверила его Нора Джонсон, которая прекрасно понимала по-русски, но не умела говорить.
Они вышли на улицу. Воздух был свеж и наполнен запахами сосны. На небе висела огромная жёлтая и порочная луна, призывая людей действовать согласно своим низменным инстинктам. Город лежал в низине и переливался огнями. Подбежал испуганный охранник:
– Господа… господа… по закону шариата алкогольные напитки можно распивать только в помещении гостиницы.
Александр Гольдфарбах посмотрел на него так, словно увидел чёрта, и чуть ли не перекрестился. Глеб Исаков возмущённо взмахнул руками, собираясь улететь в чёрное небо, где у него обитал двойник. Нора Джонсон ничего не поняла. А прекрасная Лора Гринёва загадочно улыбнулась, словно она одна знала, чем всё кончится. И действительно, не переться же нам обратно в гостиницу, подумал Феликс, это не по-русски.
– А знаешь, что такое Америка? – Александр Гольдфарбах ткнул охранника холеным пальцем в грудь.
– Да, сэр, – кивнул охранник. – Америка – это…
– Не напрягайся, – сказал Глеб Исаков.
– Хорошо, – согласился охранник.
– Это очень могущественная страна, – заверил его Александр Гольдфарбах. – Ты даже не представляешь, какая могущественная!
– Да, сэр, – испуганно согласился охранник.
– Ты лучше подскажи, где нам пристроиться. Мы будем вести себя паиньками.
– Сэр, меня выгонят с работы… – сказал охранник не очень твёрдо и, ища поддержку, с мольбой посмотрел на Феликса.
Феликс пожал плечами, говоря тем самым, что он не комментирует действия Александра Гольдфарбаха.
– Слушай, что тебе говорят, – вмешался в спор Глеб Исаков, – и ты станешь счастливым человеком.
– Это тебя успокоит, – Александр Гольдфарбах сунул ему в карман формы купюру.
– Сэр, меня всё равно уволят, а сейчас очень трудные времена.
На этот раз его голос был ещё менее твёрд, в нём проскальзывали панические нотки. Похоже, он знал, что такое жизнь, и страшился её.
– Ничего, – похлопал его по плечу Глеб Исаков, – возьмёшь автомат и пойдёшь воевать в Россию.
Как всегда, он нёс ахинею, как всегда, он был глуп в своих умозаключениях. Нора Джонсон ничего не сказала, потому что мало что поняла. Гринёва же промолчала, потому что знала, чем, где и как заканчиваются все русские пьянки. Надо родиться в России, чтобы понимать значение выпивки для русской души, подумал Феликс. Выпивка была национальным гимном, знаком, судьбой!
Охранник затравленно вертел головой:
– Ладно, – согласился он, – идёмте я покажу вам место. Только ради Аллаха, не шумите. Меня уволят, я и так уже три раза был ранен.
Феликс пригляделся: охранник действительно был немолод и вполне мог участвовать и в первой, и во второй чеченских войнах, но дослужился всего лишь до гостиничного охранника, и у него действительно был повод задуматься о смысле жизни.
– Я тоже был ранен вот здесь! – громко сказал Александр Гольдфарбах, показывая себе на грудь, – но, слава богу, выжил.
Врёт, подумал Феликс. Господин Александр Гольдфарбах появлялся только на пепелищах, когда все мировые страсти улягутся. Вот тогда и начиналась его работа сутяжника с игроками мира сего, которые естественным образом наследили за собой. И, видать, работа шантажиста была весьма прибыльной и удачной, иначе бы Березовский не держал его при себе. Вот и теперь он выискивал себе кусок покрупнее да пожирнее и, как гончая, чуял его, но не мог найти. Естественно, на такой информации можно было много наварить. Главное, знать, как. А Александр Гольдфарбах знал, как это делается. Так по своей наивности думал Феликс, не веря теперь абсолютно никому: ни Норе Джонсон, ни, естественно, Александру Гольдфарбаху, ни мистеру Биллу Чишолму, даже самому себе, не говора уже о Глебе Исакове. У него осталась только призрачная надежда, что его великолепная, прекраснейшая Лора Гринёва совсем не такая, что она единственная понимает и, главное, любит его, но не хочет поступиться гордостью.
– Ради Аллаха, господа, тише, – испуганно оглянулся на гостиницу охранник, из которой за ними, несомненно, наблюдали и фиксировали каждый шаг. – И бутылочку спрячьте, спрячьте вашу бутылочку, господа…
Он повёл их на задний двор, за какие-то железные конструкции, которые в свете луны казались воздетыми в бездонное небо скорбными руками. В низине за соснами пряталась беседка с дубовым столом и скамейками.