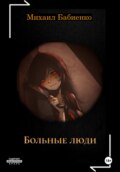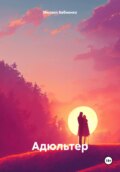Михаил Олегович Бабиенко
Незваные гости
Времена, в которые я рос, были неспокойные: когда мне было два-три года, в стране случился военный переворот, и многие несогласные с новым президентом, избранным военными – Антанасом Сметоной, – брались за оружие. Мой отец тоже хотел это сделать, но мама его остановила, сказала, что не готова остаться вдовой с детьми-сиротами. Более того, убеждало мою матушку в ненадобности сопротивления и то, что президент Сметона, выступая через некоторое время в Каунасе, объявил, что будет больше заботиться о народе и не допустит к власти «безответственных политиканов» – таковыми он называл прошлое, свергнутое правительство. Мы, литовцы, ещё не знали, что такое диктатура – мой народ вообще не был сведущ в делах политики. Быть может, именно поэтому диктатора Сметону все восприняли восторженно. В СССР говорили, что, когда они пришли в 1939 году в нашу страну, они нас таким образом освободили от диктатуры и от плохой жизни. Однако ж, стоит заметить, жизнь при диктатуре казалась не такой уж и плохой: я помню, что школа, в которой учились мы с Гедеминасом, улучшилась, а скоро нас перевели в новую школу, где была большая библиотека, полная самой разной литературы (настоящий подарок для Аушры). Отец смог расширить свою территорию и засеял новые гектары полей, которые давали нам пшеницу для производства хлеба; из Швеции отец закупил несколько молодых коров, дававших отменное молоко, которое мы продавали как в чистом виде, так и в виде масла. Мы жили счастливо: у нас был большой, тёплый дом, у нас всегда были продукты, из которых матушка всегда готовила прекрасные блюда, у нас, детей, были развлечения, друзья… Каждый вечер мы собирались у тёплого камина. Мы с Гедеминасом и Аушрой рассказывали родителям, как прошёл наш день, а они то смеялись, то попрекали нас, но всегда обнимали, гладили по головкам и говорили, что любят нас. Нам, детям, жизнь казалась хорошей, хотя, без сомнения, для взрослых всё было труднее.
А ещё труднее стало, когда пришли советские солдаты.
Осенью 1939 года на нашей территории появились советские базы, и встретить во время прогулки по городу солдата в советской униформе стало обыденной вещью. Потом, через полгода с лишним, у нас сменилось правительство. И вот тут начались странности: правительство сменилось на коммунистическое, и новые наши правители начали агитировать за то, чтобы наша страна вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. Уже до того, как в Москве дали на это ответ, милиционерами, сотрудниками администрации и школы стали коммунисты, а иногда и те, кто приехал из России. А скоро у нас изменилось вообще всё: вместо гимна «Литва, отчизна наша» мы стали в школе петь «Интернационал», вместо нашего жёлто-зелёно-красного флага мы стали поднимать красный флаг с серпом, молотом и звездой, и надписью: «Литовская ССР». Отец ко всем этим изменениям отнёсся с пренебрежением: он читал в газетах сообщения о голоде и репрессиях в Союзе и думал, что это всё так или иначе произойдёт и в Литве. Матушка и Аушра поначалу отнеслись ко всему легко: да, власть сменилась, сменились государственные символы, но ведь жизнь осталась спокойной. Они вновь и не думали о политике, полагая, что это не их дело. Мы с братом скорее были на стороне отца, который считал, что политика коснётся каждого.
И она вскоре коснулась.
Через некоторое время началось некое подобие коллективизации: всех фермеров, до того занимавшихся строго своим хозяйством, стали сгонять в колхозы и заставлять трудиться вместе. Главным минусом было то, что если до того фермеры получали доход со своего хозяйства, то теперь, не имея ни своего хозяйства, ни своего оборудования, они не имели и своего дохода: еду-то у них забирали, но платили редко, и не деньгами, а остатками урожая, коих было мало. Тем фермерам, у кого было большое хозяйство, было ещё хуже: их объявляли «кулаками» и «зажиточными крестьянами», их имущество отбирали, а их самих с семьями селили в маленькие хибары, непригодные для жизни. Так получилось и с нашей семьёй: наше хозяйство было большим, а потому нас, как «кулаков», выселили и дали нам избу, в которой протекал потолок, проваливался пол, а стёкла были разбиты. А в наш старый дом поселили неких «бедняков» – крестьян, которые не имели большого дохода. Можно подумать, что это справедливо: они бедные, им хозяйство нужнее. Но конкретно эти «бедные» были отвратительными хозяевами: бывало, проходил я мимо нашего старого дома, смотрел на огород – а он запущен, там растёт разве что трава-костёр. Наше же новое положение было не самым приятным, но мы с отцом быстро всё наладили: мы справили пол и потолок и вставили новые окна. Работа была тяжёлой, но нам было легче от того, что полные хороших надежд мама и Аушра нас поддерживали и помогали нам. Казалось, что, пусть нам и нелегко, но мы всё переживём…
Ага, да где там…
Скоро нашу валюту – лит – сменили на рубль, и стало всё совсем плохо. С полок исчезли масло, сахар, спички, мясо – словом, то, в чём раньше никто не нуждался, и то, что теперь было практически недоступно. Нам с семьёй пришлось туго: из-за нехватки продуктов приходилось надеяться на собственные силы, вследствие чего мы работали в колхозе, как проклятые. Иногда нам помогали соседи, которые тоже с трудом жили при новой власти. Но, как ни странно, количество отдаваемого власти урожая росло пропорционально росту всего добытого урожая, и нам оставалось мало. Легче было лишь от того, что членов нашей семьи, которых надо было кормить, стало меньше: Гедеминас незадолго до того ушёл в армию и чаще жил в казарме и лишь иногда приезжал к нам. Однажды приехал и пожаловался, что нету более литовской армии – есть теперь только подразделение советской армии, в которое входят литовцы. Мы поинтересовались – а чего плохого? А он разразился гневной тирадой о новых командирах, которые говорят на русском, а он на этом языке ни слова не понимает; о новых порядках, чуждых ему и слишком жёстких; о везде снующих политработниках, которые всё намереваются кого-нибудь арестовать за антисоветские мысли и намерения. «Только вот не понимают они, глупцы, – говорил Гедеминас, – что все мысли и намерения, которые у нас безусловно есть, мы храним в себе». И действительно: безопаснее было не говорить о том, что при новой власти хуже. Да, они пришли незаконно, да, они всё захватили и отняли у нас наше имущество, но если ты хочешь сохранить хотя бы свою халупу и не променять её на холодные тюремные нары или на барак где-то в северном Казахстане, то лучше помалкивать. Мы все это понимали.
Однако отец мой, казавшийся всегда спокойным и непробиваемым, однажды сорвался.
Помню, как пришёл к нам один работник колхозного комитета – забирать наш урожай. Ну, мы отдали, сколько полагалось, оставив себе немного – несколько краюшек хлеба на каждого члена семьи, причём поровну на каждого, да ещё всего понемногу. Но тут этот собиратель вдруг сказал: что нужно отдать больше: «Человек, как показывает практика, может прожить и с меньшими объёмами пищи в закромах». Тут мой отец взорвался: взял, подошёл к этому парню и как ударил его по морде! Тот сразу отлетел к столу, так отец и тут его настиг и, взяв его за ворот, начал почти бессвязно орать: «Это наш урожай! Не ваш! Не общий! Наш!». Мы насилу отца оттащили, а мама принялась умолять того работника не жаловаться на её мужа, обещая что угодно сделать. Работник же серьёзно, без малейшей ухмылки, сказал: «Сходишь со мной на сеновал – так и быть, прощу». Мама ужаснулась, начала было думать, стоит ли оно того, но её прервал отец, который чуть было не вырвался, но мы с сестрой его удержали. Напуганный работник убежал. Мы сразу поняли, что это добром не кончится, и оно не кончилось.
Через месяц, в октябре 1940-го года, моего отца арестовали. Ему вменили 58-ю статью – о контрреволюционной деятельности. Обвинили в подрывной работе и даже в сотрудничестве с антисоветскими литовскими организациями, которые на территории нашей страны действительно было, только отец о них не знал совсем. Увезли отца, а давление на нас увеличилось: нас заставляли работать больше и отнимали больше. В конце концов мы настолько выдохлись, настолько устали, что решили бежать из деревни в Каунас. Произошло это под покровом ночи, в самый тёмный час. Мы бежали, как угорелые, к станции, откуда уже грозился уехать последний поезд в город. Мы чудом успели запрыгнуть в переполненный вагон. А там, как назло, сидело очень много чекистов – все надменные, с наглыми рожами. Мы сидели в самом уголке, чтобы затеряться за толпой и не попасть на глаза этим тварям. К счастью, обошлось…
С осени 1940-го года мы жили в Каунасе. Мама устроилась на предприятие по производству ткани, где ей, конечно, платили мало – проблемы с деньгами никто не отменял, – но это были реальные деньги, на которые можно было себе позволить купить немного еды раза два в неделю. Мы устроились жить в небольшой квартире – почти каморке, где едва хватало места для нас троих. И, несмотря на все трудности, мы старались радоваться. Получалось, правда, плохо: теперь мы вечерами не смеялись, а горевали по старым временам, плакали и пытались успокоить друг друга. Пытался нам помочь и Гедеминас: узнав о нашем положении, он стал высылать нам еду – у него было неплохое жалование, как у военного, а потому он мог себе позволить купить нормальную пищу. Правда, и это скоро прекратилось: Гедеминаса уволили из армии по причине «ненадёжности», ибо его отец – кулак и контрреволюционер. Брат на это отреагировал спокойно. Он устроился на металлообрабатывающее предприятие и тоже начал приносить домой деньги. Жизнь наша стала чуть счастливее. Мама и Аушра почти всегда старались радоваться мелочам и говорили, что и такому положению дел можно радоваться: «Да, привычная жизнь разрушена, но это лишь значит, что надо привыкнуть к новой, а ведь и в ней можно найти поводы для счастья». Такими поводами стали наши с Аушрой успехи в школе (в которую, кстати, было трудно устроиться учиться), подарки от Гедеминаса (он откладывал деньги на подарки маме, Аушре и мне): маме он подарил красивое зеркальце с камнями – не самыми дорогими, но тоже блестящими; Аушре – оловянного солдатика, которого он собственноручно перекрасил под солдата Войска Литовского – краски, к слову, он одалживал; мне же он подарил книгу – как ни странно, русскую: «Тихий Дон» некоего Михаила Шолохова. Он сказал, что в лавке были «сплошь коммунистические книжонки, а это – самая приличная». До сих пор помню эту книжку с приятно пахнущими страницами и красивым шрифтом. А ещё помню, что мне нравилась написанная в книге история, особенно моменты, когда убивали большевиков. Особенно мне нравилась сцена, где повесили казака Подтелкова. Жестоко, конечно, но время тоже было жестокое.
Лето 1941-го года ознаменовалось для нас другой трагедией: к нам пришли офицеры госбезопасности и объявили, что Гедеминас должен быть арестован по обвинению в организации диверсий против советских спецслужб. Мы тогда в ужасе отмахивались, всеми правдами и неправдам и доказывали, что мы не знаем о нём ничего такого (что было правдой, ибо мы действительно ничего такого не знали), но чекист говорил, что мы тоже под угрозой ареста как укрыватели преступника. Интересовался он и местонахождением Гедеминаса: того не было ни на заводе, ни вообще в городе. Мы отвечали, что ничего не знаем. Чекист скоро плюнул и ушёл, а мы остались в неведении: что же делал Гедеминас? И куда он пропал? Стало очень страшно выходить на улицу: мы боялись, что нас арестуют в любой момент и отправят далеко от дома. Мы с сестрой даже перестали вступать в контакт с нашими старыми друзьями, коих и так было немного, и стали очень неприметными. Мама перестала контактировать со своими коллегами. Кроме того, у нас всегда был наготове чемодан, где было собрано всё, что необходимо для побега: бельё, принадлежности для гигиены и еда на первое время. Правда, мы совсем не представляли, куда мы, если что, убежим, ибо родных у нас не осталось. Мы с Аушрой предлагали бежать через всю Балтию и добраться до Финляндии, либо же на плоту переплыть в Швецию. И тот, и тот вариант были одинаково сложными для выполнения, но мы были готовы пуститься куда угодно, когда придёт беда.
И скоро она пришла. Вместе с братом.
Однажды вечером, 21 июня, он заявился на порог к нам и заявил, что надо бежать. Мы быстро взяли наши вещи и убежали из квартиры. Когда мы убегали, я успел услышать, как к дому подъехала машина, из которой выбежали несколько человек, устремившихся в дом. Судя по всему, это были чекисты. Мы бежали, сколько было сил, и выбежали из города. Перед нами лежали тёмные поля и редкие лесополосы. Скоро у девушек не осталось сил бежать, и мы остановились в одном лесочке. Мы в полной темноте, не разжигая костра, лежали и набирались сил. Параллельно Гедеминас рассказал нам, что он действительно работал в одной антисоветской организации, созданной ушедшими из армии военными, верными своей присяге Литовской Республике. Организацию скоро разгромили, и военные начали прятаться кто куда. Многих поймали, но некоторые успели схорониться в ближайших хуторах. Мы рассказали ему о наших планах убежать в северные страны, но он отверг их, сочтя невыполнимыми, и предложил бежать к границе с немецким Кёнигсбергом или в до того литовский, но ставший немецким портовый город Мемель (при литовской власти он назывался Клайпеда). «А разве немцы нас примут?» – спросили мы. «Не знаю, – отвечал Гедеминас, – но, если надо, мы и из Германии убежим, и вообще Европу оставим – всё равно она вся немцами оккупирована, а нам тогда дорога будет в Америку – там тысячи литовцев живут, они нас примут». Конечно, он говорил это, не совсем веря в то, что подобное можно исполнить, но мы верили ему, ведь он был единственным взрослым мужчиной в семье, он был военным и, следовательно, имел опыт. Немного успокоившись и устав после такого долгого и неспокойного вечера, мы заснули под кустами.
А на утро всё изменилось ещё больше.
Просыпаемся мы – а по дороге идут красноармейцы. Все разбитые, угрюмые, уставшие. Брат приказал нам не высовываться, но я всё же осторожно выбрался из кустов и спросил у солдат:
– Что такое с вами случилось?
Один солдат – в драной гимнастёрке, со съехавшей набок пилоткой – отвечал мне:
– Нас немцы гнали – падлюки, – а теперь литовцы к чертям выгнали.
– Как «выгнали»?
– Из Каунаса. – отвечал солдат. – Погнали нас, как паразитов, а сами флаги свои выносят, гимн поют… Ты, мальчик, бежал бы: не ровен час, и немцы придут…
После солдат устало вздохнул и пошёл вслед за отступавшей колонной. Я подбежал к своей семье, схоронившейся в кустах, и радостно объявил им полушёпотом:
– Советская власть кончилась! Немцы идут, а наши уже в Каунасе власть взяли!
Пробираясь бегом через поля, скрываясь от немецких военных частей, мы слушали Гедеминаса, который объяснял, что Германия, похоже, напала на Советский Союз и что немцы могут дать стране независимость. Мы с сестрой и мамой тогда ничего о Германии не знали и думали, что, может, немцы действительно нас освободят. Казалось, что хуже, чем при Советах, быть не может. Пришли мы – а на улицах празднество: люди идут по улицам с жёлто-зелёно-красными флагами, поют: «Литва – Отчизна наша», радостно скандируют, что пришла, наконец, свобода. Увидев, как люди радуются, мы сами обрадовались: да, с юга идут какие-то немцы, но они-то явно нам ничего плохого не сделают, а вот красных, которые уже сделали нам много плохого, мы погнали – и хорошо! Гедеминас был особенно весел:
– Неужели выгорело моё дело? Господь, спасибо тебе…
Потом он помахал в чью-то сторону и пошёл к неким людям, которые, как я понял, были одеты в литовскую военную форму. Мы же с сестрой и мамой отправились домой – налаживать свою жизнь.
Не прошло и трое суток – и вот уже немецкие солдаты маршируют по городским дорогам, и горожане радостно встречают их, как освободителей: машут им руками, дают цветы, хлопают в ладоши. А немцы улыбаются глуповато, радуясь такому гостеприимству, и цветы держали близ груди. Я же посмотрел на их серую униформу, на их командиров, шагавших чуть поодаль, и подумал, что какие-то они грозные: и лица у некоторых серьёзны, и одеты они в тёмное, и блестят у них на лацканах черепа, и кожа у них бледная и чуть тёмная от копоти. Они мне в этот момент напомнили демонов, шагающих из дьявольских недр. Смотреть на них было неприятно, при внимательном рассмотрении они внушали какую-то непонятную тревогу. Мама с сестрой относились к немцам равнодушно, а вот Гедеминас смотрел на них скорее восторженно: они ведь били большевиков, а, как говорится в одном выражении: «Враг моего врага – мой друг».
Правда, скоро для нас с мамой и Аушрой эти «друзья» стали угрозой.
Немцы не дали нам независимость, разогнали наше правительство, успевшее быть созданным после ухода красных, и поставили над нами своё управление. Они закрыли школы, университеты, вывезли из библиотек, музеев и галерей всё, что можно было вывезти. Людей же они заставили работать на износ, дабы производить немецкой армии припасы и одежду. Маму, поскольку она работала с тканями, заставили вместе с другими работниками фабрики шить немцам шинели ввиду наступающих холодов. Работать заставляли до изнеможения, и мама, бывало, просто приходила домой и падала на кровать будто бы замертво, но она всегда выживала, конечно. Нам с сестрой пришлось осваивать навыки готовки и стирки в полной мере, готовить на всю, пусть и немногочисленную, семью, убираться в квартире. Школы всё равно не было, так что мы учились жить самостоятельно. А мама была только. Она почти всегда была без сил, но всегда выходила на работу. Помню, я спросил её:
– Мамочка, отчего ты отгул не возьмёшь?
А она отвечала нам:
– Не могу, солнышко, а то меня немцы накажут. Помнишь нашу соседку, тётю Рамуне? Она вот в один день отказалась выйти на работу – сказала, что устала. И ведь она действительно была еле жива от работы. Но в ответ на это немцы вывели её в подворотню и расстреляли.
После мы с сестрой маме вопросов не задавали.
Что касается нашего брата, Гедеминаса, то он немцев после разгона правительства сразу невзлюбил и стал против них высказываться, только тихо и лишь при нас. Он говорил о том, что нужно и немцам сопротивляться, а потому надобно распространять пропаганду и совершать против них диверсии. Правда, он указал на то, что стрелять в немцев не стоит: «За каждого убитого немца они убьют десять обычных литовских фермеров». Поэтому он занимался не тем делом, которым хотел бы заниматься – убийством врага, то есть, – а расклейкой и разброской листовок. Печатали их в одной подпольной типографии, которая уютно расположилась в подвале жилого дома. Таких типографий на территории Литвы было много, а тех, кто делал листовки, объединяла одна организация – Литовская Освободительная Армия, она же ЛЛА (Летувос Лайсвес Армийа). Не воевали, конечно, но не позволяли при этом воевать другим: листовки развешивались и подбрасывались так, чтобы их видели молодые парни – потенциальные призывники в дивизии, батальоны и легионы СС или полицейские отряды. Обычно литовцев, не узнавших ещё на своей шкуре жестокость немцев, привлекала возможность за щедрое вознаграждение (в виде как имущества и денег, так и личной безопасности) послужить Германии, и Освободительная Армия старалась отбить у них это желание. Поскольку я тоже хотел быть причастным к этому и желал ощутить чувство трепета перед опасностью, к которой я иду с гордым видом, – обычное желание для неутомимых подростков, – то меня взяли разносить листовки. Помню, как страшно было во тьме ночи, в самый комендантский час, когда автоматчики ходили и грозились расстрелять каждого вышедшего на улицу, я пробирался через подворотни и закоулки и, выбрав время, аккуратно и при этом быстро клеил листовки.
В одну такую ночь, помню, я оказался у стены, отходившей от одного каменного дома. За стеной я уловил еле слышимый плач – кажется, плакал ребёнок. В ответ на плач звучало пение на незнакомом мне языке. Теперь-то я знаю, что это было. Это был особенный район, куда согнали местных евреев и где их держали в ужасных условиях. Со времени первого «визита» я часто захаживал туда и, укрывшись где-то в укромном места, наблюдал за тем, как немцы выносят тела либо расстрелянных, либо – чаще всего – умерших от тифа или от чахотки. Трупы последних выглядели ужаснее всего – бледные, изъеденные болезнями. За воротами я видел таких же бледных, исхудавших, но живых людей, провожавших мёртвых в последний путь молитвами на только им известном языке. Их, насколько я знал, немцы уничтожали особенно жестоко – целыми семьями, поколениями. Они создали для этого целые лагеря, куда свозили их на поездах. Самых маленьких детей скармливали заживо овчаркам, тех, что постарше – морили голодом или забивали насмерть дубинками. Взрослых же доводили работой и голодом до состояния живых скелетов и, когда они уже были непригодны для работы, либо сжигали их, либо душили газом. Ну, мне так рассказал тот, кто умудрился сбежать и скрываться в лесах.
Нельзя сказать, что мне везло, пока я работал подпольщиком. Несколько раз немецкие часовые, обходившие улицы, засекали меня и гнались, но я всё время умудрялся скрыться. Правда, эти часовые докладывали командованию, и то устраивало облаву: ходили по домам и искали мелкого бандита по весьма неточному описанию, сделанному теми часовыми. Никого так и не поймали. Но однажды удача отвернулась от меня: один часовой оказался шустрым и таки поймал меня. Меня доставили в комендатуру, где мужик в чёрном костюме с черепами и с прилизанными седыми волосами грубым голосом и с криками допрашивал меня, пытался выведать, кто мне наказал листовки расклеивать и где заказчики находятся. Я не выдал, хотя они, буду честен, пытались: и били меня, и душить пробовали, и паяльник к рукам прикладывали (шрам остался до сих пор) – ничего не помогло. Решили меня просто расстрелять, ведь по их закону именно такое наказание должно было последовать за антинацистские листовки. Повели меня по тёмным городским улочкам. Не видно было ничего – хоть глаз выколи. Солдат меня вёл молодой и, видно, зелёный, а потому он иногда беспокойно по сторонам оглядывался, будто ребёнок. Кроме того, он держал винтовку на плече, и, быть может, не умел её быстро снимать. И я решил воспользоваться случаем и попробовать сбежать. Когда мы прошли до ближайшего открытого места и солдат стал оглядываться особенно часто и подолгу, я резко рванул в сторону. Я слышал, как он на немецком кричал мне, чтоб я остановился. Винтовку он, к слову, снял быстрее, чем я думал, и сразу же принялся стрелять. Почти попадал, даром, что в темноте. И, когда мне уже немного оставалось до ближайшего укрытия – подворотни, пуля меня всё же настигла – попала прямо в левую руку. Я вскрикнул и упал. Боль была нестерпимая, хотелось плакать, но я сдержался и замер. Солдат подошёл, осмотрел меня и, видно, не заметив, что ранен я не смертельно, взял меня за ноги и потащил из города. Я тогда сознание потерял и ничего не запомнил, а очнулся, когда лежал в яме, полной расстрелянных.
Немного подождав, пока вновь начавшаяся боль утихнет, я нашёл в себе силы подняться и окольными путями пробраться в город. Это заняло у меня больше времени, чем хотелось бы, ибо я, измождённый и потерявший, пусть и немного, крови, двигался с большим трудом. Дойдя до нашего дома, я уже чувствовал себя плохо и почти проваливался в бессознательное состояние, но умудрялся найти в себе силы пойти дальше. Я практически прополз по лестнице к нашей квартире и позвонил в звонок. Дверь открыла сестрёнка. Увидев меня, раненого и бледного, как смерть, Аушра сразу кликнула маму, и та помогла мне лечь на диван, а затем нашла полную наполовину бутылочку спирта и бинты, а также щипчики, которые она использовала для своих женских дел. Пусть у неё и не было медицинского опыта, пусть она и не знала, как вытаскивать пули, но она всё же решилась. Предварительно дав мне выпить немного обжигавшей воды, чтобы было терпимее, и обработав щипцы спиртом, она начала свою работу. Это было очень больно, и я, несмотря на подобие анестезии, дёргался, и Аушре пришлось меня удерживать всем своим телом. Прошло где-то минут пять, после чего мама всё же достала пулю и кинула её в сторону, и рану обработала спиртом и завязала бинтом. От пребывания с пулей в руке и от операции я потерял все силы и долго потом валялся на диване, не имея возможности даже встать. Родные ухаживали за мной, кормили меня, всячески поддерживали. Приходил и Гедеминас – он долго искал меня, а узнав, что я лежу дома с ранением, прибежал сразу. Он хвалил меня, говорил, что я хорошо справился со своей задачей и даже смог избежать смерти, что и некоторым взрослым не удаётся.
Скоро я смог снова ходить и делать повседневные вещи, но вот заниматься расклейкой листовок я больше не мог – немцы знали меня в лицо и думали, что я уже мёртв. Но, поскольку я всё же хотел участвовать в сопротивлении, то меня подрядили работать в типографии. Сначала помощником, потом, через два месяца – основным печатником. Обстоятельства данной замены тоже интересны: тот, кто занимал эту должность до меня, вдруг стал часто куда-то пропадать и заниматься чем-то, что нам было неизвестно. Поняли мы всё лишь тогда, когда двух членов нашей подпольной группы арестовали. Гедеминас решил зайти к печатнику домой… На следующий день тот уже был мёртв. Гедеминас рассказал, как он задушил предателя, пока у того кожа не посинела, и унёс тело за город, чтоб не нашёл никто. После этого печатать листовки стал я. Работа была трудоёмкая и отнимала много сил, но я старался, поскольку знал, что моя работа имеет смысл – она помогает бороться с врагом. Забегая вперёд, скажу, что моя работа и работа тысяч печатников по всей стране помогли: немцы не смогли собрать из литовцев дивизию СС, не смогли угнать большое количество литовцев на работу в Германию.
Чем ближе было лето 1944 года, тем понятнее было, что немцы проигрывают. В июне этого года Красная Армия начала гнать немцев с Белоруссии, а оттуда до Литвы и других стран Балтии было рукой подать. Немцы убегали, оставляя город за городом, деревню за деревней – не забывая сжигать всё к чертям, само собой. Ушли немцы – пришли красноармейцы. Получился забавный случай: Советы нас освободили от одной оккупационной армии и одновременно оккупировали нас ещё раз. Освободив Каунас и прочие наши города, советские власти начали принудительную мобилизацию в ряды Красной Армии. Гедеминас, как и многие другие бывшие солдаты Войска Литовского и простые мужчины, не забыли тех бед, что принесли им теперешние освободители, и решили сражаться и против советских солдат. И для этой цели они подготовились уйти в лес. Мне тогда уже исполнилось двадцать, и я решился идти с ними. Мама и сестра долго, со слезами на глазах уговаривали не уходить, ведь мы можем умереть, на что мы с братом отвечали, что нас немцы могли убить много раз, но так и не убили, и что нам благоволит удача. Мы пообещали, что вернёмся и что будем гнать врага, как Перкун1. Мама благословила нас и пообещала молиться за нас Господу Богу каждый день, а сестра, со слезами на глазах, обняла нас с братом и пообещала, что будет ждать нас, сколько потребуется. Отужинав с ними в, как нам казалось, последний раз, мы ушли в лес.
Подготовка к партизанской борьбе для меня оказалась сложной: я всегда был не особо физически развит, а потому мне трудно давались постоянные изнуряющие тренировки. Но вот в чём я преуспел, так это в стрельбе из всего, что стреляло – из винтовки, из немецкого МР 38/40 и из советского ППШ, из Маузера (его-то до сих пор и ношу с собой). К тому же я более-менее умел скрытно наблюдать и не попадаться при этом врагу (успел кое-как отточить этот навык при немецких оккупантах), а потому меня, как и Гедеминаса, у которого эти навыки были развиты лучше, определили в разведчики. После полутора месяцев тренировок мы были готовы. Оставалось лишь дать клятву. Мы с братом дали её одними из первых в отряде:
«Я клянусь перед Всемогущим Богом во имя павших братьев за свободу и независимость Литвы усердно трудиться над восстановлением независимой Литвы, не жалея ни сил, ни чужих жизней, строго исполнять приказы руководства, хранить в величайшей тайне свои действия, не брататься с врагом и сообщать все своему начальству. Мне известно, что я буду наказан смертной казнью за нарушение этой клятвы.
В том, что я обещаю, да поможет мне Бог.»2
Наш партизанский путь занял несколько лет, о коих сильно долго ведать не буду.
Мы жили в небольших землянках, скрытых от посторонних глаз кустами и ветвями. Жить было трудно: земля часто была сырой, бывало, пропускала дождевые капли, было холодно. Добыча еды была той ещё задачей: часто приходилось довольствоваться дарами леса в виде мелкой или в меру крупной дичи или грибов, но иногда мы выходили в близлежащие деревни и просили еды у местных. Те, тоже не любившие советскую власть, охотно давали нам хлеб или сала. На фоне такого питания все бойцы нашего немногочисленного отряда были худыми, как спички, а в условиях холодной земли ещё и болели поначалу. Но скоро мы попривыкли к такому и закалились, чему помогали и частые тренировки, помогавшие ещё и не растерять навыки. Ещё одной проблемой было то, что мы не могли навестить родных – об этом втихомолку горевали все бойцы, так или иначе. Нас с братом разделяла с мамой и Аушрой ещё и то, что мы, уходя, попросили сообщить пришедшей советской власти, что мы, мол, погибли во время войны – так маму и сестрёнку никто бы не заподозрил в родственных связях с «бандитами-националистами» и не сослал бы их в лагеря. Перед нашим уходом мы также узнали от мамы, что она планирует вместе с Аушрой уехать в деревню где-то в районе Сувалкии (это юго-запад Литвы). Так она хотела найти спокойствие. Думаю, что мама и сестрёнка сильно горевали по нам, будучи в разлуке и далеко от прежнего дома, где всё напоминало о прекрасном довоенном прошлом. Мы с братом, пусть и были менее эмоциональными, тоже сильно печалились и хотели вернуться… Конечно, в тогдашней ситуации возвращаться было бессмысленно, и мы хотели вернуться в беззаботные дни первой половины 1930-х годов, когда никто нас не трогал, и мы просто наслаждались жизнью… И скоро мы осознали, что сможем вернуть эти прекрасные дни только в том случае, если будем усиленно бороться с врагом, отнявшим их. Именно эта вера позволила нам не сгинуть от горя.