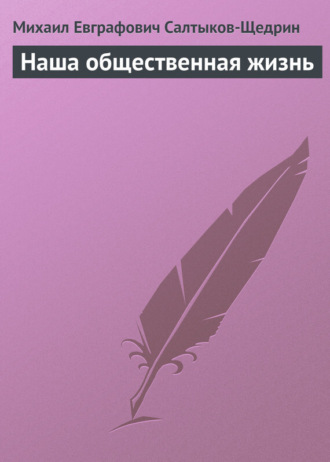
Михаил Салтыков-Щедрин
Наша общественная жизнь
Крестьянская реформа несколько осадила Васю и остудила его либеральные увлечения. При одном известии о том, что дело кончено, maman Чубикова мгновенно позеленела; papa говорил: «Бог милостив!» Сержи, Леоны, Мишели и Юшки подняли головы, насторожили уши и нюхали, чем пахнет.
Вася задумался и начал размышлять о том, что эта за штука такая, от которой позеленела его maman. Перед умственным его оком один за другим сменялись все его проекты увеселений, и ему в первый раз показалось, что он хватил уж чересчур, что он уж слишком большой прогрессист. Он кстати припомнил, что, кроме теории увеселений, есть еще теория ежовых рукавиц, и принял ее к соображению.
С этих пор юную его грудь стал грызть некоторый червь. Ему было всего двадцать восемь лет, но он уже был на виду и мог дерзать высоко. Он начал развивать свою новую теорию и стал доказывать, что цикл либеральных увлечений уже совершился и что в дальнейшем ходе все зависит от того, как будет себя вести общество. Мысль эту он развивал исподволь и, так сказать, келейно, потому что опасение прослыть ретроградом все-таки еще заставляло его по временам трепетать. Но перед старцами он изливал свою душу со всей откровенностью и понравился им еще более. Наконец наступил 1862 год и окончательно развязал Васе язык.
1862 год совершил многое: одним он дал крылья, у других таковые сшиб. Вася был из тех, у которых выросли крылья и вытянулся язык в целую версту. Уж и болтался же он в ту пору, эффектно освещенный заревом петербургских пожаров. Maman в это время еще больше позеленела, трясла головой и потихоньку шептала: «Qu’allons nous devenir!»,[68] но папа все еще говорил: «Бог милостив!» В первый раз Вася имел по этому поводу стычку с papa.
– Нет, тут не «бог милостив», а ежовые рукавицы надо! – говорил он и, казалось, изрыгал из себя пламя, как Везувий. Papa оставалось только умолкнуть и удивляться, какой у него сын способный.
С этих пор теория ежовых рукавиц окончательно вытеснила из Васиных разглагольствований теорию увеселений и проповедовалась беспрепятственно. Казалось, он верным чутьем поднюхивал, что кому и когда нужно, и сообразно с этим управлял утлою ладьею своей. Он опять скомпоновал несколько проектов в самом новейшем духе, из которых один трактовал «об истреблении гибельного нигилистского разврата в самом его зародыше», и хотя эти проекты оставлены были без последствий, однако на «перо» было вновь обращено внимание. Одним словом, мой Вася опять сугубо понравился.
На днях я его встретил на той всеобщей людской выставке, где встречаются люди, бог весть с которых пор друг друга не видавшие, – на Невском проспекте. Идет мой Вася солидно и истово; идет – и блещет. В глазах какая-то мгла; нос холодный; на сжатых губах – ироническая улыбка.
– Что это, какой ты, Вася, мрачный? – спросил я его после первых взаимных приветствий (меня Вася до сих пор любит за то, что я в школе растолковал ему, что Омар и гомар совсем не одно и то же).
– Mon cher, тут не до веселья! дела такая пропасть, что, право, не постигаю, как еще я изворачиваюсь! – отвечал он и таинственно шепнул мне на ухо: – Я в настоящее время проект составляю!
– Гм… проект?
– Вот изволишь видеть, mon cher: теперь у нас везде какая-то разладица. Принципов нет, bureaucratie[69] с земством ни то ни сё… я предпринял все это привести в известность!
– Однако это, брат, штука!
– Ничего! с божиею помощью, как-нибудь уладим! Главное, mon cher, надобно доказать, что bureaucratie и земство – одно и то же… ты меня понимаешь?
– Да это само собой разумеется; это нечего и доказывать!
– Ну вот! Я хочу доказать этому Каткову (я, mon cher, им очень в последнее время недоволен; эта история с гласными… это, наконец, черт знает что такое!), что там, где он видит какой-то разлад, какие-то две стихии, в сущности нет ничего… такого!
Вася взглянул на меня, как бы спрашивая, понял ли я, и когда увидел, что я понял, то прибавил:
– Я даже хотел бы, чтобы ты прочитал мой проект, потому что хоть мы и в разных лагерях…
– Помилуй, Вася! какие же тут лагери!
– Ну нет! признайся… ведь ты… немножко нигилист?
Вася улыбнулся и ласково потрепал меня обеими руками за бока. Но я глядел ему прямо в глаза, как человек совершенно ни в чем не виноватый.
– Я не знаю даже, об чем ты говоришь! – сказал я.
– Я говорю о прошлогодних поджигателях! – отвечал он совершенно спокойно. – Но не в том дело; я пришлю тебе мой проект и попрошу высказать откровенно твое мнение. Я желал бы, чтобы мысль моя была обсужена со всех сторон. Ты понимаешь: со всех сторон!
Мы расстались; Вася, разумеется, не присылал мне своего проекта, и я решительно не знаю, какая его постигла участь. Не сомневаюсь, однако, что он будет оставлен без последствий, но что «перо» опять-таки будет замечено, и Вася прослывет окончательно талантливым и даже необходимым публицистом. Дело, очевидно, не в том, каковы проекты, а в том, каковы люди, их составляющие. Если эти люди нам милы, то как бы ни были нелепы их мысли, все-таки авторы их не перестанут быть нам милыми. Как растолковать невольные симпатии, которые связывают людей между собой? А может быть, Вася в самом деле в какой-нибудь фантастической рубашке родился? а может быть, скрывается у него где-нибудь родинка такая, которая привлекает к нему все сердца?
Я совершенно убежден, что Вася пойдет очень далеко, потому что такого рода люди и ко времени, и к месту. В такой исторический момент, когда разрозненные общественные стихии ищут опознаться и организоваться, нельзя отказывать и ерунде в праве выказывать подобные же стремления. Напротив того, не лишнее даже ее к тому поощрять, потому что, получив известную организацию, ерунда перестает быть разлитою в целом обществе, утрачивает свою неуловимость и делается более доступною для истребления. Это уж плохой признак, если ерунда начинает о чем-то беспокоиться, если она оказывает поползновение сплотиться, подыскивает союзников и заговаривает о каких-то принципах: это значит, что ей приходится туго и что недалек ее час смертный. Ибо ерунда только тогда хороша, когда она ерунда веселая, разудалая и разухабистая, когда всякое чрево поет ей хвалу, и нет в целом свете души человеческой, которая не отплясывала бы трепака по вся дни живота своего, а не тогда, когда ерунда корчит серьезные мины, начинает объяснять себя и даже выделяет из себя философов. Но так как процесс умирания – процесс продолжительный, и как в то же время ерунда, по приведении ее в известность, оказывается ратью-силой великою, то очень понятно, что такие философы, как мой друг Вася, весьма ей по сердцу и что она всячески стремится их ублажить и обласкать.
А потому моему Васе не житье, а малина. Триста купчих предлагали ему руку и сердце; из Крутогорска, из Семиозерска и даже из Глупова шлются к нему телеграммы за телеграммами, в которых приглашают его продолжать; портной Шармер вызывается делать ему даром платье, с тем чтобы Вася с трех до пяти часов пополудни прогуливался в нем по Невскому. Но Вася бережет себя; он отказал всем тремстам купчих, потому что заприметил княжну Оболдуй-Тараканову, которой в настоящее время двенадцать лет и при помощи которой он надеется свою карьеру усугубить; на глуповские телеграммы он отвечал сухим «благодарю», потому что всякое поползновение со стороны глуповцев к выражению чувств (хотя бы и панегирических) считает еще преждевременным; что же касается до Шармера, то и его предложения Вася не принял из опасения, что об этом могут узнать в его société.[70]
Вася великий интригант, и если видит у кого-нибудь во рту кусок, то с быстротою молнии его выхватит и проглотит. Если же кусок засел слишком плотно, то он смотрит на него и казнится. Вообще, он полагает, что все куски по праву принадлежат ему, и это убеждение дает его лицу такое приятное выражение, что даже вчуже смотреть на него весело. Точно вот так и говорит его взор соколиный: всем вам, сколько вас тут ни есть, не разминуться-таки с моей пространной утробой! Приятелей у Васи нет, но связи он поддерживает охотно; он не прочь при случае и подольститься, если от этого должно произойти что-нибудь очень хорошее, а в особенности если это подольщательство можно произвести как-нибудь секретно. Я полагаю, что в темной комнате он даже отважится поцеловать в плечико. Но самое величайшее для него наслаждение – это подставлять ножки и двоедушничать. Мысль, что он дипломат, до такой степени крепко засела в его голове, что он слова не может сказать, чтобы не соврать, шагу не может сделать, чтобы не вильнуть ногой куда-нибудь в сторону. Но это не только не вредит ему, а придает еще больше блеску и привлекательности, потому что члены той ерунды, в которой он обращается, на всякую ложь взирают с почтением и признают ее за высшее выражение человеческого ума. И когда сойдется разом несколько таких Вась, равной силы, то зрелище выходит даже занимательное, потому что все врут. Разумеется, когда-нибудь может за это и достаться Васе, но он загадывать вперед не любит и весьма основательно рассуждает, что если и доподлинно придет такое время, что его к стене прижмут, то и тогда можно будет солгать, только солгать надобно будет как-нибудь почудовищнее, чтоб у самих допрашивателей встали от этой лжи дыбом волоса и отшатнулись бы они от него, как от пса зачумленного.
Убеждений Вася, ни вообще, ни в частности, не имеет никаких, но охотно говорит о том, что «в наше время, mon cher, прежде всего необходима дисциплина».
Если ему возражают, что дисциплина есть только орудие, а отнюдь не убеждение, то он не дает возражателю кончить и очень самодовольно говорит: «Я, mon cher, в эти тонкости не пускаюсь: по-моему, дисциплина, дисциплина и дисциплина!» И действительно, когда на него смотришь и слышишь его голос, то невольно начинаешь что-то понимать и об чем-то догадываться.
– Я, любезный друг, – говорил мне однажды Вася, – могу сегодня думать так, а завтра могу думать не так. Я думаю, mon cher, как мне нравится и как мне в данную минуту думать выгодно. И в этом случае дисциплина…
– Должна схватывать твои мысли, так сказать, на лету?..
– C’est le mot![71]
И как я ни старался доказать Васе, что обязанность ловить на лету такие мысли, которые перебегают из одного угла в другой, есть обязанность трудная, почти невозможная, но Вася нисколько моими доводами не тронулся.
– Во-первых, – сказал он мне, – я могу тебе указать на историю, которая именно свидетельствует, что невозможного на свете не существует; во-вторых – entendons nous, mon cher![72] Я согласен, что могу мыслить так или иначе, но, во всяком случае, мои мысли все-таки принадлежат к одной категории и вращаются не бог знает в каком необъятном пространстве. Я, любезный друг, звезд с неба хватать не желаю и обнять необъятное претензии не имею; все мои желания и помыслы не выходят из скромного круга благонамеренности и благоустройства; следовательно, и сообразоваться с ними совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Нужно только на всякий случай быть готовым…
Наружность Вася имеет красивую, солидную, почти почтенную. Для каких-то таинственных целей он страстно желал поседеть поскорее, и ласковая природа даже в этом не отказала своему баловню и украсила его голову несколькими преждевременными сединами. Вася носится со своею тридцатилетнею сединой словно с сокровищем и теперь хлопочет только о том, чтоб в его взоре показывалось нечто меркнущее. Если и этого он достигнет, то счастию его не будет границ, потому что тогда он уж совсем будет похож на деятеля высшей школы, изнывающего под бременем соображений. Словотечение Вася имеет изобильное и беспрепятственное. Он может свободно, в продолжение нескольких часов сряду, нанизывать одну пошлость на другую, и ни разу не поперхнется, ни разу не обмолвится умным словцом. Из одной пошлости он незаметно переходит в другую, потом опять возвращается к первой, и опять переходит в другую, и таким образом топчется на одном месте, как те негодные лошади, про которых говорят, что они «секут и рубят и в полон берут», а с места все-таки ни взад, ни вперед не трогают. Голоса он никогда не возвышает, и если вступает с кем-нибудь в спор, то спорит чрезвычайно легко и приятно, а именно: никогда не обращает внимания на возражения своего противника и продолжает мерно, учтиво и всладце растягивать свою пресненькую, благонамеренную канитель. Во время словотечения Вася охотно прислушивается к звукам своего собственного голоса, как будто бы целый мир гармонии проносится в эти минуты над его душою. За эту способность члены той ерунды, в которой он обращается, прозвали его оратором.
Несмотря на свою холодную наружность, Вася нравится дамам. Они находят, что наружность часто обманчива, и в особенности хвалят Васю за его скромность. Действительно, никто никогда не слыхал от Васи ни одного слова об его сердечных победах, хотя достоверно известно, что он всею своею карьерой обязан преимущественно женскому влиянию. Вася любит женщин, но относительно увлечений держит себя осторожно; в глазах его они не что иное, как милое средство, правда, очень милое, но не больше, как средство. Даже maman, которая очень интересуется победами Васи и, пожалуй, не прочь ему посодействовать, – и та не может добиться от него никакого признания по этой части, потому что друг мой очень хорошо понял, что в таком деле первое условие успеха есть величайшая тайна. «Женщина, mon cher, – это святыня, – говорит он, – ее нужно держать строго, ее можно даже мальтретировать (иногда они это даже любят), но келейно, mon cher, келейно! чтобы про это знали только заинтересованные в деле лица, да стены, которые достаточно, в этом случае, благоразумны, чтобы не выдать секрета!» И согласно с этим действует.
Одевается Вася солидно, но не без щегольства; пестрых цветов не допускает решительно и ограничивается черным и белым. Иногда он умышленно производит небольшой беспорядок в своей куафюре, потому что это дает ему вид мыслителя. Иногда вдруг начинает ходить с перевальцем и грациозно покачиваясь, чтобы показать себя утомленным, и потом тут же сряду, если нужно, начнет выступать бодро, чтобы показать, что он бодр и никакие труды сломить его не могут. Вообще, заботы о наружности стоят у него всегда на первом плане, и слово «приличие» вертится у него на языке бессменно. «Mon cher! приличие соблюсти необходимо, – выражается он по этому случаю. – Приличие – это весь человек! Приличие – это то тавро… ты понимаешь: тавро? – по которому всегда можно отличить un homme bien né[73] от всякой дребедени, которою наполнена наша печальная земная юдоль!» «Всегда готов, всегда приличен» – вот девиз, который избрал себе Вася, и даже самые смелые, самые искушенные ерундисты и ерундистки не могут надивиться той стойкости, с которой он преследует самую малейшую подробность того обширного и разнообразного кодекса, который называется кодексом приличий.
Вася не прочь и покутить, но изредка и притом в таком обществе, которое и по своему положению в жизни, и по своим взглядам на нее вполне подходило бы к его собственному положению и его собственным взглядам. «Таким образом, не может случиться ничего неприятного, а если что-нибудь и выйдет, то сора из избы не вынесет никто». Посещает он и лореток, и даже у влиятельнейших из них целует ручки, но от увлечений воздерживается, потому что лоретки народ болтливый и пылкий и могут, пожалуй, нагородить в его жизни чепухи. Впрочем, хорошенькая и бойкая лоретка играет-таки не последнюю роль в его жизненных предположениях, и он не отказывается доставить себе это хорошенькое лакомство со временем… когда достигнет. «Когда достигнет!» – в этом слове заключается для Васи разрешение всех жизненных загадок, и так как он сладострастен, то понятно, что эдем, который рисует ему воображение, не отличается ни особенным целомудрием, ни даже умеренностью. В сущности, Вася больше всего на свете любит милую безделку, и ему стоит танталовых мучений то воздержание, на которое он временно себя осудил. Но зато, когда достигнет, – что это будет, что это будет, когда он достигнет!
Таким образом, жизнь Васи течет как по маслу; но не могу скрыть, однако ж, что и у него встречаются кое-какие огорчения, которые слегка возмущают чистые струи его существования.
Во-первых, в самой той ерунде, в которой он постоянно обращается, выискиваются люди, которые, бог весть почему, именуют Васю «балалайкою». Я очень верю, что люди эти поступают таким образом единственно из зависти, но Васю тем не менее название это оскорбляет. Быть может, тайный голос говорит ему, что в названье есть что-то похожее на правду, быть может, самолюбие его возмущается тем, что «как же это балалайки осмеливаются обзывать меня балалайкою?». В том странном, полудиком оркестре, где нет иных инструментов, кроме балалайки, между исполнителями всегда происходит непримиримая, остервенелая вражда. Всякому хочется доказать, что странные, нелепые звуки, которые наполняют воздух, извлекаются не им, а его соседом; всякому хочется обозвать своего соседа «балалайкой». Сосед, разумеется, обижается, и затем начинается одна из тех бестолково-бесконечных распрей, в которых и оскорбляющие, и оскорбляемые, вследствие совершенного и непонятного ослепления, не могут сообразить, что стоит только взглянуть им себе на руки, чтобы прекратить всякие недоразумения и взаимно облобызать друг друга. Сверх того, на Васю прозвище это еще и потому оказывает неприятное действие, что он боится, как бы оно навек за ним не осталось. А это иногда бывает. Иногда человека, даже добродетельного, таким прозвищем наградят, в котором, пожалуй, и смысла отыскать трудно, и за всем тем пойдет он щеголять с ним через всю свою жизнь, до такой степени, что и фамилия-то его настоящая забудется, а прозвище за ним останется. И если тот человек был на пути к почестям, почести от него отнимутся; если он в это время имел в виду сделать прекрасную партию, родители невесты откажут ему от дома, и счастие его расстроится навеки. Все это Вася имеет в виду, и потому самое слово «балалайка» ему ненавистно, и он не только не откликается на него, но даже в разговоре осторожно его обходит.
Второе огорчение Васи заключается в том, что у него есть несколько прискорбных знакомых, от которых он почему-то не имел решимости отстать. Связи эти начались отчасти в школе (где между множеством чистеньких и приглаженных мальчиков все-таки попадались пять-шесть лохматых личностей), отчасти же образовались немедленно по выходе из школы, когда Вася еще, так сказать, метался и не знал, куда себя пристроить. С тех пор как в нем окончательно утвердилась и созрела теория ежовых рукавиц, знакомства эти стали особенно ему ненавистны. Встречаясь с ними, он как-то уморительно сжимается и все озирается по сторонам, словно опасается, чтобы кто его не застал.
– И ведь какие между ними нахалы есть – так и лезут! – жаловался он мне однажды. – Один там у меня отставной поручик есть… все это, понимаешь, еще скверные остатки детства и молодости… так трудно даже поверить, какой наглец! так вот и стремится! так и стремится! и такая ведь бестия: чем больше видит народу, тем нахальнее и настойчивее действует!
– Да ты бы как-нибудь развязался с этим поручиком! – посоветовал я.
– Не могу! Ты понимаешь, любезный друг, что он не один, а их тысячи, и что мы в такое время живем, когда никто ничего не понимает. Кто может поручиться, что этот самый поручик не окажется завтра каким-нибудь инфантом испанским?
– Я тебя начинаю, наконец, плохо понимать, Вася!
Вася остановился, взял меня за руку и крепко сжал ее.
– В такую эпоху, – сказал он мне взволнованным голосом, – когда вчерашние мальчишки сегодня уже являются сильными мира… в такую эпоху нет ничего невозможного!
Я угадал, что Вася намекает на Сашу Клаверова, который в это время действительно сделал какой-то удивительный скачок на жизненной лестнице, и понял его горесть.
– Так вот видишь, оно и нельзя пренебрегать-то, – продолжал Вася. – А между тем только грудь да подоплёка (я ведь немножко славянофил, mon cher!) знают, чего мне это стоит! Однажды этот поручик…
По всем видимостям, Вася хотел рассказать что-нибудь ужасное, потому что даже волосы на голове у него зашевелились, но разговор наш был прерван чьим-то приходом, и я, к сожалению моему, так и не успел узнать, какое свинство учинил ужасный поручик с моим приятелем.
Третье горе Васи – это так называемые «нигилисты». Невинные эти люди решительно возмущают светлое течение его жизни. Пойдет ли он на Невский – ему кажется, что навстречу ему полезут целые выводки нигилистов, что они смеются над ним и даже грубят ему. Пойдет ли он в итальянскую оперу – ему кажется, что он со всех сторон угнетен, что он уж не хозяин здесь и что г-жа Барбо млеет совсем не для него.
– Помилуйте! ведь я не хожу в ихнюю Александрию, ведь я не мешаю им! так пусть и они не мешают мне, пусть же оставят мне хоть это убежище, в котором я мог бы спокойно предаваться моим удовольствиям.
Вообще, он полагает, что с нигилистами следует поступить строго: дозволить им посещать только Александрийский театр и гулять только по мещанским и подьяческим. Я не ручаюсь даже, что он не составит проект в этом смысле, но знаю наверное, что проект этот, как влекущий за собой совершенное загромождение мещанских и подьяческих улиц, принят не будет.
Итак, я рассказал тебе, читатель, полную биографию друга моего Васи и даже, легко может быть, и наскучил тебе ею. Но скорее всего может случиться, что я упустил из виду многие характеристические черты, которые могли бы сделать задуманный мною образ более заманчивым. К этим чертам я могу еще возвратиться впоследствии, потому что подвиги моего Васи не только не прекратились, но, напротив того, обещают литься как река.
Но во всяком случае, ты не отопрешься, читатель, что личности, подобные описанной мною, далеко не чужды тебе. Их, этих новых Колумбов, неустанно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды, развелось на наших глазах такое великое множество, что уже невозможно равнодушно относиться к такому явлению, невозможно его игнорировать. И если я успел наметать хотя некоторые черты его, то и этого уже для меня достаточно.
Быть может, это и смешно, но сознаюсь, что я считаю такие явления не только прискорбными, но даже далеко не безопасными. Это уже не просто так называемый тормоз, который действует механически и, по крайней мере, оставляет нетронутым самый предмет, который он тормозит; нет, это ядовитая слизь какая-то, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась. «Мальчики» кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни подплясывая, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга изо рта лакомые куски, которые и стараются поспешнее проглотить… Это целая проклятая система, это целая проклятая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – неимение никаких принципов.
И действительно, если мы вникнем ближе в так называемые идеи касты мальчиков, то найдем, что главная и руководящая их идея в том именно и состоит, что идей никаких иметь не следует, а следует иметь дисциплину. «Нам не нужно идей, – говорят они, – идеи хороши для тех, кто в них нуждается для оправдания своего существования, а мы сами по себе составляем идею, и, следовательно, для нас требуется только солидарность и дисциплина». Понять такую мысль довольно трудно, потому что тут, собственно, есть только зародыш мысли, но если вникнуть, то окажется, что зародыш этот довольно ехидный. Не поленитесь наблюсти когда-нибудь за улыбками «мальчика», за его пожатиями руки, всмотритесь в разнообразные оттенки и тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки со всем ее тайным высокомерием. Вы поймете, что здесь, как в гробу некоем, заключено тление целого мира, что было бы напрасным трудом искать тут признаков жизни, потому что этой последней нельзя да и нет никакой надобности входить в какое-либо прикосновение с этим заживо истлевшим миром.
«Мальчик» от рождения страдает мыслебоязнью и потому в своей упорной борьбе с мыслью призывает на помощь интригу. Все, что кажется ему выше той сферы, в которой он прозябает, все, что живет с ним рядом и в то же время не чурается мысли, – все это ложится на него горячею укоризною и возбуждает в нем ненависть. И не потому совсем, чтобы такое соседство влекло за собой какой-нибудь ущерб для него, а просто потому, что оно нравственно давит его, что оно на каждом шагу служит ему безмолвною уликой того, что в нем не осталось ничего человеческого. Он сам понимает, что и изолгался, и избездельничался, но в то же время очень логично рассуждает, что дело его до того плохо, что никакими обличениями тут помочь уже нельзя. Следовательно, все, что прямо или косвенно обличает его, все принимает в его глазах характер бесплодной назойливости и возбуждает его негодование. И тут-то начинает он интриговать. Интригует он не очень хитро, но зато усердно, без отдыху… И велика бывает его радость, когда он убеждается, что враг, наконец, свален, и притом свален средствами самыми незамысловатыми – почти что с помощью одного лганья! Гвалт, бестолковое карканье стоном стоит над болотом, и долго потом дрянное болотное население будет передавать из рода в род трогательную повесть о том, как нашим чибисам удалось взять в полон коршуна.
Да, я каюсь перед вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли на моих глазах не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем…
Толки о молодом поколении, о том, какую роль оно играет в современном общественном движении, и о том, какую роль ему играть следовало бы, продолжают питать нашу литературу. И беллетристы, и публицисты, и философы всех цветов и лагерей предаются разглагольствованиям об этом предмете с равным увлечением, так что человек, непричастный литературе, может и впрямь подумать, что тут-то и заключается разрешение будущих судеб русской жизни.
И действительно, вопрос о том, до какой степени праздны подобные толки, еще весьма спорен и сомнителен. С одной стороны, кажется, что они ни к чему не ведут, ибо смешивают понятие о деятелях с понятием о деле и, ставя на главный план первое, значительно заслоняют последнее. Но, с другой стороны, думается и так: не представляют ли все эти, по-видимому, бесплодные толки о деятелях лишь вынужденную форму, под прикрытием которой получается возможность говорить о самом деле, подобно тому, как в свое время такую же прикрывающую форму представляли толки об искусстве? Далеко ли ушли мы от этих последних и получили ли возможность смотреть на дело прямо? Нет, отвечает простой здравый смысл, мы ушли не далеко, и даже до сего дня обязываемся тратить свои лучшие силы на разрешение вопросов об околичностях и мелочах. Отчего происходит столь медленное шествие вперед – это вопрос посторонний, но факт существует, и мы обязаны его констатировать и с ним сообразоваться. Последствия этого факта таковы: во-первых, толки, занимающие нашу литературу в настоящее время, точно так же как и толки, занимавшие ее несколько лет тому назад, суть толки иссушающие, не имеющие живого смысла, и во-вторых, что эти же самые толки, несмотря на свою бесплодность, имеют законную причину существования, которая дотоле останется в своей силе, доколе не изменятся общие условия жизни.
Положение незавидное. Вместо того чтобы оплодотворяться живым делом, мысль оскопляется мелочами и постоянным, обязательным обращением в порочном круге. Можем ли мы сетовать на нее за это призрачное путешествие от одного призрака к другому? Имеем ли мы право сказать литературе: довольно болтать пустяки о молодом поколении, приищи что-нибудь другое, более занятное и пользительное! Говоря по совести, не можем и не имеем права, потому что мысль, в своем развитии, находится в зависимости от известных обстоятельств, а есть такие обстоятельства, которые, так сказать, осуждают ее на производство пустяков. Поставленная в такие условия, мысль если и оставит бесплодное поприще, на котором ратует ныне, то к делу-то все-таки не пристанет, а придумает новое бесплодное поприще и на нем начнет заявлять о своем существовании, станет трепетать и биться, чтобы сделать этот новый покров как можно более прозрачным и легким, и в конце концов все-таки обманет себя, потому что покров всегда останется покровом, и как бы мы ни старались его сделать прозрачным, все же первый план нашей деятельности будет занят не делом, а усилиями выразиться о деле таким образом, чтобы оно уж не очень было похоже на безделье.
Но даже и на этой грустной арене, где средства смешиваются с целями, а орудия дела с самим делом, положение, в которое становится мысль относительно той или другой мелочи, составляющей предмет ее изысканий, далеко не одинаково выгодно. Есть мелочи, к которым, в известном смысле, можно прикасаться с полною ясностью (потому, вероятно, что «смысл» этот признается уже достаточно разработанным), а в другом – только с величайшею осторожностью и крайнею, почти рабскою изворотливостью (потому, конечно, что этот «другой смысл» недостаточно еще созрел и разработан). В первом случае не представляется никаких затруднений, и мысль катится, как зерно бурмицкое по бархату, для всех вразумительно и для самой себя безвозражательно. Во втором случае, мысль испытывает двойное крушение: во-первых, она обязывается тратить свою силу на мелочах, и во-вторых, даже в этой работе обязывается отыскивать самый, что называется, из бисеру бисер, и притом с таким расчетом, чтобы ни один слишком любознательный соглядатай не мог сказать: аа! да ты вот откуда, почтеннейшая, идешь! но чтобы можно было во всякое время такому соглядатаю ответить: нет, ты клевещешь! я совсем не оттуда иду, а я просто гуляю! Понятно, что при таких способах выражения не может быть и речи о чем-нибудь действительно серьезном, что мысль обязывается политиканить и изворачиваться и что на первый план выступает та гнусная наука умолчания, которая, в окончательных результатах, ведет к полнейшей анархии здравого смысла. Понятно, что мысль лишается при этом возможности исполнить даже первейшую свою обязанность – обязанность сознать самое себя, обязанность очистить тот предмет, который она исследует и которому сочувствует, от ненужных примесей, которые ему вредят.






