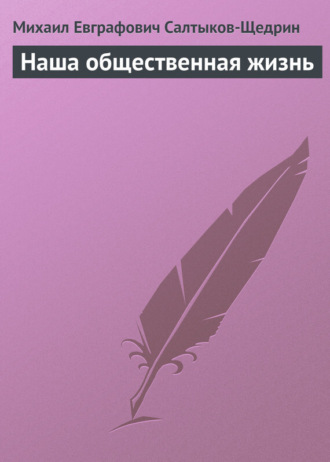
Михаил Салтыков-Щедрин
Наша общественная жизнь
Мы охотно избавляем г. Громеку от тяжкой роли секретно наблюдающего за нашим журналом публициста и предоставляем ему наблюдать открыто. Мы принимаем его вызов и с удовольствием готовы отвечать на его обвинения, но для этого было бы желательно, чтоб он формулировал их определительнее. Мы не сомневаемся, что наше положение, как ответчиков, не изъято будет некоторой затруднительности, но утешаемся тою мыслью, что положение, в которое поставил себя добровольно сам г. Громека, будет еще затруднительнее. Это просто, не приведи бог, какое положение!
Итак, мы просим г. Громеку объяснить не стесняясь:
1) Кого он разумеет под теми «журнальными либералами и прогрессистами», которые «потчуют подогретыми рассуждениями о том, что такое женщина и чего она вправе от нас требовать, в то время как вокруг нас раздаются вопли осиротелых матерей и сестер»? Да и в чем именно, то есть в каких статьях он заметил столь пагубное направление?
2) Кто сбивает юношество с толку похвалами «и посылает его сотнями по Владимирке, чтобы бесследно завянуть в снегах Сибири»? В каких именно статьях «журнальных либералов и прогрессистов» заметил он такой яд?
Если г. Громека укажет на факты, это будет, конечно, великая заслуга в глазах всех благомыслящих людей, но если он не укажет? должно ли будет принять его молчание в смысле действительной невозможности сделать просимые указания или же опять в смысле снисходительности и доброжелательства к нам?
А вы вольным духом! не робейте!
Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Фонвизину и Гоголю, – остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, – и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей; действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое, стройное миросозерцание, не имевшее, с внутренней стороны, строго человеческого характера, но наружными своими признаками не дозволявшее, однако же, сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут в очию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыбья голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.
Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну – искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что, кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем бы излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь известно, у нас нет средины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!); он заговаривает со своим vis à vis[13] и все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», – говорит вся его съежившаяся фигура.
– Vous êtes russe, monsieur?[14] – спрашивают его.
– Oui-c; да-с, – бормочет сконфуженный россиянин. – Ne désirez vous pas du champagne?[15]
И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия – страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества и проч. и проч. И откуда что полезет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность, – никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий ради бездельничества россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.
– Я курицын сын – куда же мне с этакой рожей в люди лезть! – резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.
Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплевания, которая будто бы составляет основную черту россиян; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешествующих соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои – куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, которые навели меня на изложенные выше размышления.
Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских гулящих людей за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельдец, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz,[16] a русский гулящий человек не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по-видимому, уверен, что там, в этой груди, у него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что гулящий человек не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец…
И представьте себе, за такую-то скромность гулящие люди не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который русские гулящие люди до сих пор совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия… что такое Россия? Россия – это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинутая на просвещенного гулящего человека, тогда как Париж… Париж!., да ведь это alma mater,[17] избранная свободною игрою всех инстинктов гулящего человека, это alma mater, с которою утроба гулящего человека соединена прочною, почти чугунною пуповиною!
Русских обвиняют в космополитизме, по крайней мере, московские публицисты уже несколько месяцев сряду убиваются, доказывая, как это вредно и как это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно гулящих русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прозорливые и завистливые: где бы ни увидали хорошую еду или по части юбок угодья привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттоль и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-половой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X – русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп – гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III – гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорят, многие из гулящих людей, ценою неимоверных усилий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Подобно австрийскому поэту Якову Хаму, открытому русским подданным Конрадом Лилиеншвагером, эти люди находили возможность в одно и то же время «воспеть Гарибальди, воспеть и Франческо». Тут вся штука в том, чтобы потереться – это уж такое особенное удовольствие.
И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам свободы и цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мабиль, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского гулящего человека! Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:
Баль-Мабиль очень сочувствует полякам – очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и не канканирующая публика повторяет как истину, о которой уже и не спорят, что Франция, toujours si libérale, si généreuse,[18] должна помочь «народу-мученику» и освободить его от варваров… Варвар! Чего не делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы своими сочла нас Европа, – ничто не берет! Чуть что заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять – «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! – заревела публика, – мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский», – завопил он жалостливым голосом… «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» – повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» – продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я… поляк…» – «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими?» – «Я поеду, непременно поеду». – «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже, в то время как в Польше дерутся, вон!»… И господина выгнали.
После этого изгнания русских из Баль-Мабиля постиг, как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шаго-де-Флер, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы – не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде (?), горячатся и шипят «симпатиями» к Польше, за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика были вываляны в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границею и вращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевозможные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду снослив, да и брань на вороту не виснет, – но всему есть пределы. Остается или бежать домой, в Россию, или же отрекаться, стократ отрекаться от своей народности, – от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!
Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен выводить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!», и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что, если парень-то солгал! ах, страм какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья, – нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус, особливо если при этом не забудешь прибавить «да будет мне стыдно», – а потому, что как же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я – поляк…» – пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк… и танцуешь!» – воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не позабыли наградить пинками: «Это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, единовременно получил возмездие за две национальности. То-то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «Messieurs! я не русский и не поляк – я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: «Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут!» Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Гризетки потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.
Вот как вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь для нас последствия ложь, по-видимому, даже самая правдоподобная.
Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «Служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» – или же предпочел быть откровенным: «Так и так, братец, солгал – и за то пострадал!» – и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он в постель или на другой же день как ни в чем не бывало отправился в Шато-де-Флер или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?
Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.
Но, независимо от изложенных выше веселых выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже удивляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны – положим, ложно понятые, – но все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это мое дело, что я из-за него распинаться должен? – и этими размышлениями оправдывал себя. Положение безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.
Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми его сильными и слабыми сторонами. Почему он так поступает? а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.
Подобное же явление, разумеется в своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является простым и непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. И все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя необходимым деятелем в русской семье.
Один гулящий русский человек шатается без дела и не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что-то продал. Одиноко носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов…
Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто удивительно. Теперь у нас существует гласность, и притом гласность самая полная, ничем не ограничиваемая, кроме цензуры; у нас совершилась, без разговоров, одна из величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; у нас обнародованы основные положения устного и гласного судопроизводства; у нас, того гляди, будет самоуправление – чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно, – нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов, и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли сказать, что мы стеснены, – нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д., – нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно… но в пределах благоразумия, государь мой! но, разумеется, в пределах благоразумия!
Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гулящий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце? Неужели мы и впрямь дадим Н. Ф. Павлову повод злорадно восклицать в своей убогой газетке: ну вот, и дали! ну вот, и дали!
Что бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гулящих русских людей, – я просто недоумеваю… Реформу, что ли, какую-нибудь новую сочинить, или какую-нибудь из старых реформ уничтожить – право, уж и не знаю. Но, принимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если бы всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, гулящие русские люди сидели бы дома, а не носились бы с своим чревом по чужим странам.
Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что, с легкой руки г. Тургенева, современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грехи двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но я надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в настоящем ее виде.
Первый признак, который останавливает мое внимание, – это место происшествия, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более наклонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую наклонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности было развито чувство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этою потребностью изящного, и как бы последствием ее, являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшем намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изощряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Что он должен делать, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загибеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда, где таковые принимаются с охотою. Более злачного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой приют, где изящное добывается без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому-то русские «отцы» так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загибеевку, с тем только различием, что в Загибеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли мания руки или с помощью денег, но устроить крепостное право, где бы то ни было, для них ничего не значит.
Никакими подобными качествами «дети» не обладают: ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ не только не посещающий танцклассов, вроде Мабиля, но вообще малообщительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» – говорят эти опытные люди и сладко вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли все это достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, их не касается, потому что их там не было.
Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем не способны, во-вторых, это, наконец, глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я, – воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. «Отцы» в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они могли притворяться чем угодно, во-первых потому, что никто с них за это не взыскивал, во-вторых потому, что и власть у них большая была. «Ванька! я шах персидский?» – «Шах персидский-с». – «Ан врешь, я турецкий султан!» – «Турецкий султан-с». И таким образом, они могли воображать себя чем хотели, и никто им на это не возражал: мудрено ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспорья и потому поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как есть, со всем его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное, все ореолы, равно как и мраки, исчезают сами собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может. «Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико…
Да, это «отцы», это они – те гулящие русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ерничества умеют создавать живые и художественные картины…
Другой анекдот из жизни русских гулящих людей за границей рассказывает «Современная летопись» (№ 12). Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет доверили ему сумму, превышающую два миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги верному человеку, точно так же не задумываясь, как во время оно, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!
Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуревается. Но для того, чтоб они были выгодны, необходимо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заключается то предприятие, на которое решаешься. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрыч Кокорев заверял, что это предприятие отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в таком случае, если б таковой у меня и был. Потому, не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроят, или выстроят такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды да на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла улещать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: «Vade retro, satanas!»[19] То есть, быть может, я и дам что-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду!
Знатные русские дамы всё это забыли и – что больнее всего – выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие, то почему они не устроили такого дела в отечестве? почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти приняли бы их вклады с благодарностью и тут же проглотили бы их так, что и следа потом бы не сыскать.
Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.
И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (Domus nova и Domus di Maria[20]), это несуществующий банкирский дом в улице Рише. Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не расспрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Лемете и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Лемете соглашается, является с Лондинским под видом капиталиста к знатным русским дамам, получает от них несколько миллионов рублей, а им взамен того объявляет, что они имеют честь быть основательницами несуществующего банкирского дома Лемете и Лондинского, № 26, улица Рише.






