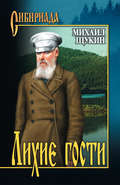Михаил Щукин
Ямщина
19
Народу на праздничную службу собралось великое множество. Места в церкви всем не хватило. Стояли на паперти, в ограде и даже за воротами. Через распахнутые двери виделось с улицы мерцание свечей, доносились голоса певчих, приглушенные людским шорохом.
Каждому, кто пришел сюда, истово верилось, что рядом стоит незримый Николай-Чудотворец – мужицкий Бог, который не покинет и обережет в любом деле: в землепашеском, ямщицком и торговом. Ему молились, его просили, чтобы послал удачу.
Колокольный звон улетал за околицу и терялся в снежных полях посреди березовых колков, обнесенных кружевами просвечивающегося инея. Проникал в глубину земной стыни, обогревал корни ржи, наделял их родящей силой.
Все, что было в самой Шадре: многие люди, дома, торговые ряды, сани и лошади; все, что было за ее пределами: поля, увалы, иззубренная гряда тайги – все овевалось звоном, словно живым голосом. Он без препятствия входил в душу, и рука сама вздымалась, прикасаясь ко лбу троеперстием. Губы шептали: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй…»
После службы народ скатился с церковного пригорка вниз, на площадь посредине Шадры, и площадь зашевелилась, загомонила, покупая и продавая, споря и торгуясь, а при ловком случае, под шумок, объегоривая.
Торговля у Дюжева катилась, как по маслу. Товары, доставленные из Ирбита в Томск, а из Томска лихими Зулиными – в Шадру, шли нарасхват. Брали мануфактуру и скобянку, чай и посуду, а больше всего жаловали мужики вниманием железные плуги – их разобрали еще до обеда. Вахрамеев и приказчики из томских дюжевских магазинов сбивались с ног. На морозе от них пар валил. Сам Тихон Трофимович, скрывая радость и нагоняя на лицо суровость, прохаживался вдоль рядов, заводил разговоры со знакомцами и собирался уже прогуляться по ярмарке, как тут объявился Васька. Осадил Игреньку, вздыбив его перед зазевавшейся бабенкой, отмахнулся от ругани, которая полетела ему вослед, подскочил к хозяину:
– Тихон Трофимыч, дело у меня есть!
– Ну! – ухмыльнулся Дюжев. – А мы хотели в пим насрать да за тобой послать.
– А я сам явился! – не обиделся Васька. – Дело-то… Игреньку нашего шадринские обидели.
– Он чо – девка? «Обидели…»
– Смеются, Тихон Трофимыч. Там у их два конишки дохленьких, хвалятся, что обскачут.
– Кто хвалится-то – конишки? – похохатывал над разгоряченным работником Дюжев.
– Шадрински хвалятся. Дюжевский жеребец, смеются, в хозяина весь, задышливый.
– Ну-у-у… – посуровел Дюжев, и добродушие с его лица как водой смыло.
– Ага! Так и смеются, – подтвердил Васька.
– Поехали! – Дюжев сердито шагнул к кошевке. – Не обгонишь – до гроба назем станешь убирать, к вожжам близко не подпущу!
Любой слух на ярмарке – быстрее молнии. Не успел Васька договориться с шадринскими парнями об условиях скачки, а народ уже повалил на крайнюю улицу, которая выходила на тракт. Любит праздный люд на скачки глазеть – хлебом не корми. Ваське того и надо: столько девок сразу на него пялятся! Шапку заломил, кудри на волю выпустил, цветастую опояску на барнаулке перетянул туго-натуго – красуется.
Скакать решили не вершни, а на кошевках, от середины улицы до первого свертка на тракте, где было кольцо для разворота.
И обратно.
Дюжев раздухарился. Шуба – нараспашку, борода – на сторону. Не мог примириться с обидой. Раззадоренному, ему и в ум не пало, что Васька сам надразнил шадринских парней, наговорил им обидных слов и подбил на скачки. Правда, парни сейчас про это и сами не помнили. Кровь гуляла, глаза азарт застил.
Три кошевки свободно уместились в один ряд поперек улицы. Людское волнение передавалось и коням. Они расхлестывали копытами утоптанный снег, косили по сторонам широко распахнутыми глазами. А в глазах, округлых и влажных, – цветастое многолюдье, ближние дома и край неба.
Отмашка! Гикнули! Полетели, будто сорванные ветром, кошевки, вырываясь из улицы на простор тракта. Васька знал толк в скачках. Лихачить лихачил, но мог и головой соображать. Полного хода Игреньке не давал. Держал его с соперниками ухо в ухо. Перед свертком даже приотстал немного, боялся, как бы кошевку не занесло. И не прогадал. Обошел шадринских парней, которым пришлось на развороте своих скакунов сдерживать. А в обратную сторону – сколько есть моченьки. Тут уж ни себя, ни коня не жалей. Только глаза крепче прищуривай, чтобы ветром не выхлестнуло. Игренька выстилался над землей, и казалось, что он ее не касается – в воздухе отмахивает искрометный галоп.
– Дюжевский! Дюжевский! – закричали самые дальнозоркие, когда появилась на тракте стремительно летящая черная точка.
Тихон Трофимович успокоился и степенно запахнул шубу, всем своим видом желая показать: и так ясно, что Игреньку не обскачешь, оторвали, понимаешь, занятого человека от дела, заставили глупостями заниматься…
Шадринские парни, потеряв надежду, уже не гнали своих коней. Тянулись абы как. Васька, наоборот, подстегивал Игреньку, не давая и малого передыха, – когда еще представится случай покрасоваться в полной победе. Кошевка влетела в улицу и понеслась, не сбавляя хода, к площади. Люди, расступившись по обе стороны, кричали и махали шапками.
И вдруг разом, в один звук, придушенно ахнули. Замерли и не шевелились, словно окаменели, глядя на страшную картину: выскочил неизвестно откуда малой парнишонко, бросился наперерез кошевке, махом желая перебежать улицу. Но поскользнулся на самой середине и шлепнулся. Игренька бил копытами землю, раздувая разъяренные ноздри. Его бешеный, исступленный бег не знал удержу.
Васька уперся в передок кошевки, потянул на себя вожжи, но Игренька только всхрапывал, задирая голову, – ноги его остановиться не могли. Парнишонко съежился, уткнулся носом в снег и схватился руками за голову.
Ближе, ближе… Иные люди от страха зажмурились.
И не увидели, как мелькнул, отделяясь от толпы, яркий платок – словно цветок бросили под ноги Игреньке.
А-ах!
Повис кто-то, намертво ухватившись обеими руками за узду. Игренька споткнулся, сбиваясь с разгона, рванул вбок, с треском выламывая оглобли, и, потеряв равновесие, тяжело упал. Ваську скинуло с кошевки, как песок с лопаты, шлепнуло об дорогу, и он въехал на пузе прямо в середину толпы.
Оголец вздернул голову, заверещал, призывая мамку.
Цветастый платок покачивался на задке кошевки, а с дороги, стыдливо придерживая разодранную юбку, поднималась Феклуша. Она еще ничего не успела сообразить и только морщилась от боли, растерянно искала взглядом парнишонку, а тот, вскочив на ноги, пискнул, что обмочился, и припустил на площадь, базлая во все горло: «Маменька!»
Очнувшись, все заговорили, бросились на дорогу – кто к Игреньке, кто к Феклуше, которая, ступив несколько шагов, ойкнула – ногу больно.
Ее бестолково подхватили на руки, заспорили, не зная, куда нести, но вовремя подоспела суровая Устинья Климовна и разом навела порядок:
– Пим сымите. Садите девку на кошевку.
Приказание послушно исполнили. Цепкими, сухими пальцами Устинья Климовна ощупала зашибленную ногу и успокоила:
– Перелому нету, кость целая. Митрей, давай к нам девку. Да скорей, парень, скорей.
Митенька махом подогнал тройку, Феклушу перенесли на сани. Роман сунулся, желая примоститься рядом с дочерью, но Устинья Климовна остановила:
– Некого тебе делать, не бойся, не изурочим, – тут увидела Дюжева и укорила его: – Тебе, Тихон Трофимыч, думать бы надо – седина в бороду стукнула. Такое смертоубийство распустил. Я утром еще варнака твоего видала, сразу подумала – свернет шею либо затопчет кого. Он вишь, чо выкинул! Прута доброго на вас нету!
Тихон Трофимыч не перечил и не оправдывался, сердито поглядывал на Ваську. А тот утирался снегом и стряхивал с ладоней талые ошметья бурого цвета.
– Вот девка-то, а?! – раздался чей-то мужской голос. – С такой на медведя ходить можно! Вот отчаюга!
– Слава Богу, хоть обошлось, – вздохнула какая-то баба.
И впрямь обошлось. Игренька даже не покалечился. Освобожденный от сбруи, он вздрагивал, переступая ногами, бока его ходили ходуном.
– Коня, коня поводите, запалится, – скомандовала напоследок Устинья Климовна и уселась в сани рядом с Феклушей. – Хозяева, прости меня, грешную!
Толкнула Митеньку бадожком в спину – поехали!
Народ стал расходиться. Ярмарка еще не кончилась, она лишь в самый разгар вступала, и много чего интересного можно было увидеть.
Васька, прихрамывая, несмело подошел к Дюжеву. Тот глянул на его морду, раскатанную, как красный блин, хотел отругать, но передумал. Махнул рукой – сгинь, чтобы глаза не видели. Васька послушно подался к Игреньке.
Роман топтался на месте, с тревогой поглядывал вслед зулинской тройке.
– Да ты не боись, – успокаивал его Дюжев. – Устинья – лекарка знатная, враз ногу выправит, – виновато крякнул и позвал Романа в кабак: – Пойдем, брат, погреемся, зябко стало.
…Тихо-тихо брела по Огневой Заимке зулинская тройка. Кони за долгий день приморились, шли неторопким шагом, а Митенька их не подгонял, придерживал в руках слабо натянутые вожжи, оглядывался на Феклушу и жалел, что дорога до дюжевского дома уж очень короткая.
Устинья Климовна дело свое спроворила быстро. Распарила Феклуше ушибленную ногу в горячей воде, приложила травок, прочитала сухим шепотом молитву и велела Митеньке доставить девку до места.
– Да не вздумай гнать! – вдогонку ему наказывала Устинья Климовна.
А Митенька и не думал. Будь его воля – он бы до дюжевского дома две недели Феклушу вез. Но – короток путь. У высоких ворот тройка встала. Выбежала Степановна, узнала, в чем дело, запричитала, как на похоронах. Но тут же и осеклась, заторопила Митеньку, а сама побежала в дом, чтобы готовить постель.
Митенька поднял Феклушу на руки и понес, а она закрыла глаза от пугающей близости. Большущие, выгнутые ресницы вздрагивали. На высоком крыльце Митенька споткнулся, Феклуша распахнула глаза, и он вздрогнул – столько в них было ласки и благодарности, что хватило бы не только на одного человека, на Митеньку, но и на весь белый свет.
20
А в Шадре, не затихая, кипела ярмарка.
После полудня проголодавшийся народ тянулся в кабак, чтобы погреть нутро. Двери – хлоп да хлоп. Морозные клубки катались по полу. Четверо половых носились, сломя голову, а все равно не успевали. Но Тихону Трофимовичу, как почетному гостю, стол накрыли мигом, а на край стола поставили пыхающий жаром самовар. Вина не принесли, потому как знали: при деле Дюжев капли в рот не берет. Роман оглядел богатую снедь, подивился на блескучий ведерный самовар, засомневался:
– Не осилим, Тихон Трофимыч.
– А ничо, – отмахнулся Дюжев. – Глаза завидушши, а пузо безразмерно. Угощайся, братец, седни мы заробили.
Под чаек трезво и неторопко сладилась у них беседа. Роман, заново переживая увиденное, рассказал о чудном и теплом свете, какой явился им на бугре с Феклушей, когда остались они в Огневой Заимке, ссаженные неласковым ямщиком. А еще рассказал о горбатой старушке, которая приводила его на бугор, где видел он церковь, сотканную из того же неведомого света.
– И понять не могу, – дивился Роман, – то ли сон мне снится, то ли наяву было.
Дюжев слушал, не перебивая ни единым словом, только запаленно вздыхивал, как загнанный конь, да раздирал густую бороду крепкими короткими пальцами. А выслушав до конца, сказал:
– Сон ли не сон, а знак это, братец. Знак. Чуешь, к чему он?
– Да я уж думал. Разве к тому, что церквы, раньше ставил?
– Мастер, что ли?
– Да походил с артелью, с батюшкой.
– Вот оно и ладно, – успокоенно проговорил Дюжев. – Все к одному.
– О чем ты?
– Все о том же. Ты ешь, братец, ешь, тебе робить много нынче придется.
С ярмарки они возвращались вдвоем, уже под вечер. Молчали и слушали стылый скрип полозьев да легкий перестук конских копыт об утоптанную за последние дни дорогу. Зимние сумерки выстилали на полях голубые тени, в логах тени сгущались, становились похожими на темные озера. На густом темно-синем небе проклюнулась первая звезда, дорога меж тем поднималась на взгорок перед Огневой Заимкой, и чудилось, что кони, вскидывая головами, погонисто уходят в небо.
И вдруг встали как вкопанные. Тихон Трофимович дернул вожжами, понужая их, но кони – ни с места. Он выпростался из шубы, вылез из саней. Навстречу ему семенила по дороге горбатая старушонка. Она невесомо опиралась на старый бадожок, и шаг ее был легкий, неслышный.
– Ты откуда взялась, болезная? – удивился Тихон Трофимович.
Старушка подошла совсем близко, тихо молвила:
– Ступай за мной, и ты, сердешный, – позвала Романа, – тоже ступай.
Повернулась и пошла-заскользила по снежному целику, целясь к правой окраине Огневой Заимки, где взметывался над Уенью высокий бугор. Тихон Трофимович и Роман подались следом, поспешая изо всех сил за ее быстрым ходом.
Она вывела их на самую макушку бугра. Остановилась, опираясь на бадожок, не разгибая согнутой спины, подняла голову. Тихон Трофимович и Роман стояли перед ней смирно, как послушные ребятишки перед строгой маменькой. Старушка оглядела их с ног до головы, сухим, шелестящим голосом заговорила:
– Тута ваша радость, – подняла бадожок и пристукнула им, протыкая снег. – Тута и ваше горе.
– Кто ты? – спросил Тихон Трофимович.
– Судьба, – коротко ответила старушка.
И исчезла.
Часть вторая
1
Плотницкая артель – двенадцать мужиков в просторных рубахах. Бродни под коленями перевязаны сыромятными ремешками, щедро смазаны дегтем и рыбьим жиром – черны, пахучи. Как на праздник.
Отвесно сеет реденький дождик, мочит непокрытые головы, падает на маслянистую обувку, застывает на ней каплями, не в силах скатиться. На зеленой, умытой траве желтеет свежеошкуренное бревно – будто рублевая свеча из ярого воска. Уголками, на живульку, воткнуты в него топоры. Двенадцать штук. Изогнули отглаженные ладонями топорища, ждут урочной минуты, когда понадобятся.
Но минута еще не приспела.
Вчера шадринский священник отслужил молебен на закладке нового храма, вчера же на бугре поставили крест и толпилась здесь вся Огнева Заимка от мала до велика. А сегодня – дело артельное. Касается оно только самих плотников. Дюжев и тот отошел в сторону, сел под старой ветлой, сделал вид, что никаким краем не вмешивается, а сам нет-нет да и глянет – что там, возле креста, делается?
Роман как старшой распоряжался несуетно. Развернул холщовую тряпку, вынул на свет темную от старости икону Николая Чудотворца, приставил ее к изножию креста. Еще дед Романа хаживал с ней в первопрестольную, да и он, внук, не раз вставал перед ней зеленым мальчишкой, когда зачинали артелью новое дело. Смиренно склонял голову, слушая старшого. А нынче он сам принял под руку одиннадцать мастеров, нынче он – первый ответчик за будущий храм в Огневой Заимке.
Над иконой, вбив четыре колышка, сделал Роман маленький пологий навес и зажег под ним заранее припасенную свечку. Капли дождя, которые успели упасть на лик Николы, быстро высохли, ярче проступили глаза, будто загорелись живым, потаенным светом. Сурово, пристально смотрел мужицкий заступник на плотников, заглядывал каждому из них прямо в душу.
Роман вытер лицо ладонью, смахивая дождевую морось, кашлянул, прочищая горло, и заговорил негромко, медленно подбирая слова, будто их подколачивал друг к другу:
– Делу нашему, ребята, Никола-угодник свидетель. Перед им и ответ держать будем. Там, на небе. А здесь, на земле грешной, коли кто провинится – перед артелью отчитываться станет. Черных дел и мыслей на душу не берите. Один нагрешит, хоть и втихомолку, а расхлебывать всем придется. Либо бревно сорвется, либо сруб завалится – всякое случается, сам видывал. – Роман еще раз вытер лицо широкой ладонью и закончил: – Так вот и обяжемся друг перед дружкой. Господи, пособи!
Склонил голову перед иконой, перед горящей свечой, перекрестился и отошел. Следом за ним – остальные одиннадцать плотников. От иконы – к бревну. Разбирали топоры, расходились каждый на свое место.
Ударил первый топор, крепкая лиственница отозвалась вздохом, и сразу, обвально, застукотили в ответ остальные топоры, заглушили шуршание дождика. Он еще покрапал недолго и перестал. Тучи раздернулись, остатки их скатились по пологому склону неба к окоему, а на влажную парящую землю ударило солнце.
2
Митенька глянул, запрокидывая голову вверх, и прищурился. Солнце светило жарко, волглая рубаха на плечах высыхала, а кожу пробил первый пот. Митенька радовался. Сила в руках играла, тяжести топора он не чуял, щепа с бревна стесывалась, как по нитке, и казалось, что работать так, без устали и без передыху, он сможет и день, и два, и неделю.
В артель Митенька напросился сам. Долго обхаживал маменьку, не зная с какого боку завести разговор, опасаясь, что получит отказ, которому имелась причина: вот-вот начнется покос, там рожь подойдет, молотьба – только успевай поворачивайся. Правда, общество на сходе приговорило, что своим артельщикам, деревенским, на покосе и на молотьбе сделают по́мочь. Но по́мочь для маменьки не резон, не позволит она, чтобы чужие помогали хлеб убирать. На такой случай у нее и ответ имелся: «Коли сам не можешь с хлебом управиться, тогда и на обед помощников кликай, чтобы жевать пособляли».
Но очень уж Митеньке в артели хотелось быть. На твоих глазах, да с твоей работой встанет на бугре церковь красивее шадринской; Роман сам обещал на сходе, что красивее будет, – как таким случаем попуститься? А тут еще подоспела новость. Дюжев пообещал всех артельщиков кормить за свой счет и у себя дома. А кто варить станет? Ясное дело – Степановна, а при ней – Феклуша. Приходи каждый день наравне со всеми и любуйся, сколько душе угодно. С Феклушей у Митеньки никак крепкой нитки не связывалось. Вскоре после Никольской ярмарки он вместе с братьями в дальний извоз ушел, а вернулся, когда уже зимняя дорога пала. Разбежался после разлуки к своей симпатии, а Феклуша его дичиться стала, норовила при редких встречах проскользнуть мимо. Причины такой охлады Митенька не ведал и носил на душе печальную тягость. Она и пересилила боязливость перед строгостью маменьки. Он выбрал добрую минуту и завел разговор. Устинья Климовна, чего никак не ожидал Митенька, даже не дослушала, сразу и согласилась. Сказала, что сама про то думала, что им, Зулиным, не с руки на задках доброго дела бегать, да только одного боится – возьмут ли Митеньку? Вдруг откажут за неумелость – стыда не оберешься.
Митенька на такие слова всерьез осерчал – вида, правда, не показывал. А про себя мыслил: «Это меня-то не возьмут? Да я кому хошь нос утру!» Слова эти, вслух не сказанные, маменька в глазах у него прочитала, ответила:
– Раньше времени-то не хорохорься. Ладно, ступай.
Митенька отправился к Роману. Тот послушал, хмыкнул в бороду и спросил: каким инструментом парень работать собирается?
– Топором, чем еще? – удивился Митенька.
– Сначала, парень, головой надо работать, а после – топором. Уяснил? Теперь топор неси, поглядеть надо.
Митенька сбегал домой, принес топор, подал его Роману. Тот пощелкал ногтем по обуху, послушал. А чего слушать? Топорик каленый, привезенный с Ирбитской ярмарки, звенит – колокольчик под дугой, да и только.
– Ладно, – сказал Роман, – поглядим.
Закатал рукав, обнажил волосатую руку и провел острием по коже. Впритирку. На блескучей кромке топора остался седой волос.
– Держи, – совсем милостиво сказал Роман. – Сейчас вот что сделай… – поставил на попа махонькую чурочку, сам в сторону отошел. – Расколи на две половинки, и чтоб обе ровные были.
Прицелился Митенька – ах! Чурочка разлетелась. Одну половинку к другой приставили, и оказалось – одна побольше, а другая поменьше. А надо вот как! Роман взял топор у Митеньки и обе половинки на четвертушки – ах! ах! Приставили. Две пары до того ровные, будто такими на корню выросли. Митенька пал духом.
– Не беда, – утешил Роман. – Дело наживное, было бы желание наживать. А в артель приходи.
К полудню на небе не осталось ни единой тучи. Земля высохла, воздух накалился и пропитался тяжелым духом смолы.
Роман, а вместе с ним еще три самых опытных плотника, завязали первый венец подклета. Когда четыре бруса улеглись концами друг в друга, накрепко смыкаясь в вырубленных чашах, когда замкнули они собой широкое пространство и на бугре обозначилось будущее основание церкви, все остальные плотники разом побросали работу и подошли поглядеть. Митенька ударил обухом по брусу, топор отскочил, едва не выскользнув из рук, а брус отозвался нутряным гулом.
– На крепость пробуешь? – спросил Роман, и сам тоже ударил обухом. – Крепость железная, на два века хватит, не меньше. А может, и поболе. Все, ребята, передых. Пошли к Дюжеву на обед, попробуем разносолов.