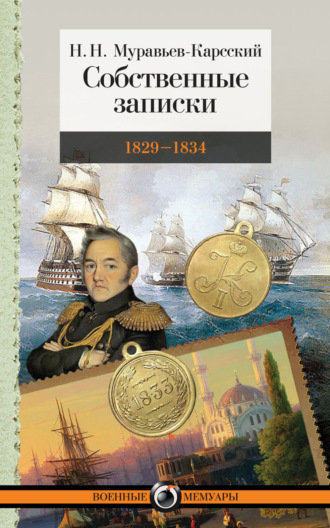
Н. Н. Муравьев-Карсский
Собственные записки. 1829–1834
Я успел привести их в некоторый род регулярства; они строили эскадроны, ехали справа по шести и по три. Я им делал смотры, как регулярным войскам, сводя сотни в кружок, и расспрашивал их о претензиях. Странно, что они на первых порах показали уже склонность солдата входить в самые подробные расчеты того, что им от казны следовало. Я их иногда и наказывал ими же самими, и все сие исполнялось с точности и повиновением. Наконец я стал их употреблять в караул к себе, и часовые их весьма строго исполняли свою обязанность. Так, однажды, возвращаясь в Эрзрум, я зашел купаться в теплые ванны, случившиеся на дороге. Ванны сии были окружены стеной, и мне никто не мешал; я приказал следовавшим за мною четырем или пяти татарам держать караул у входа. Они слезли с лошадей и поставили часового. Генерал Бахтин[38], который в то время мимо шел, захотел также купаться; но его не пустил часовой.
– Я генерал, – сказал Бахтин.
– Генс (т. е. «пошел»), – отвечал ему часовой, оттолкнув его, – я никого не знаю.
Они наряжались на ординарцы к главнокомандующему и были всегда исправны в своей должности, в сражениях бывали всегда отменно смелы, когда видели добычу или турок в богатых одеждах; в преследовании неприятеля были неотвязчивы от бегущих, но скоро рассыпались и оставляли свои знамена. Порядок, который от них требовали во время переходов, был для них весьма тягостен, и они оттого часто бегали в свои дома; но их по наказанию возвращали назад, и они продолжали службу тогда постояннее. Побеги у них также случались после сражений, в коих они нажились добычей и после коих, по обременению вьюков их сею добычей, так равно и верховых лошадей, они делались неспособными к службе, пока не распродадут завоеванных ими вещей. При малейшем попущении они немилосердно грабили деревни, и строгость в обхождении с ними, которой они охотно повиновались, была для них необходима.
Учреждение сего нового войска, кажется, упрочилось. Это одно из полезных или, лучше сказать, из удачных заведений Паскевича в Грузии.
Письмо мое к генералу Панкратьеву писано было Генерального штаба штабс-капитаном бароном Ашем, офицером весьма достойным, нынешнего года умершим. Из Гейдоров я посылал его через горы в Карс к генералу Панкратьеву с различными известиями, и Аш исполнил поручение сие скоро и хорошо.
Рассказы татар о сражении Бурцова 1 мая под Цурцхабом показывали, что жители не называли оное победою, нами одержанною; напротив, с хитрой оборотливостью старались они скрыть, что Бурцов был отражен. Азиатцы на сии вещи весьма осторожны, и как они спешат сообщить хорошее известие в надежде получить за то муждулуг, или плату за радостное известие, так уклоняются всячески от сообщения неприятных известий, предоставляя всегда дознание оных догадкам начальника. Но, во всяком случае, они слишком мало или совсем не знали Бурцова, который никогда и ни в каком случае в подобных обстоятельствах не послал бы спрашивать у кого бы то ни было разрешения штурмовать неприятеля, в виду его находящегося.
Поручение, которое имел Курганов в Чилдыре, было, так сказать, им самим накликано. Он имел ум изобретательный и хотел себя чем-нибудь особенным выказать, а потому и предложился ехать в Чилдыр к карапапахцам, между коими он уже в прошлом году еще, во время следования моего к Ардегану, показал свою отважность. Он обещался набрать конницы до 300 человек, к коим он располагал выпросить несколько ручных кёгорновых мортир, и с сим отрядом делать внезапные нападения на турок или на турецкие деревни. Предположение сие было им подано письменно начальнику штаба, и главнокомандующий, одобрив оное, послал его с охотой. Я был доволен иметь при себе способного человека, но мало надеялся на успехи, им обещанные в собрании конницы, а потому и просил его назначить к тому срок. Он не запнулся назначением сего срока, в который ничего не успел, и вскоре после того возвратился ко мне в лагерь, когда я стоял близ Гейдор. Хвастливость его досаждала мне, а потому, при возвращении его, я с удовольствием подверг его всем испытаниям карантина, невзирая на все неудобства сего учреждения в открытом безлюдном месте, где мы стояли, и на беспрестанную непогоду, постоянно тогда продолжавшуюся; ибо он возвращался из мест, где чумная зараза существовала, по его собственным донесениям. Курганову поставили совсем отдельно от лагеря солдатскую палатку, близ коей помещался в другой фельдшер, со всеми припасами окуривания, и приставили к нему караул. К нему никого не допускали и его никуда не пускали; один только лекарь ходил ежедневно осматривать его. Его заливало дождем, и фельдшер закуривал газами внутри палатки. Он сперва с шутками подвергся сим испытаниям, но скоро они ему надоели; он жаловался, просился из карантина, но я был непреклонен. Все знали, с какою строгостью всегда содержал я правила карантинные, и он, невзирая на покровительство главнокомандующего, хотя с ропотом, но подвергся сим испытаниям, во время коих я не нарушил ни однажды важности, с которой должен исполняться обряд очищения. Полагаю, что Курганов не забыл сих опытов еще до сего дня. По истечении назначенного срока он опять поступил на поприще живых людей, но без карапапахской конницы и без мортир, и продолжал по-прежнему при Паскевиче службу свою в кругу наушничества и ябед, нанося сим неудовольствия многим и поселяя раздоры между начальниками и подчиненными.
11-го числа я следовал далее с 3-й колонной, оставив крепость Цалку в нескольких верстах в правой стороне, стал подниматься на горы и остановился ночевать также в голом месте. Не было нисколько дров, погода была дурная и холодная, почему войска и терпели нужду, коей пособить было нечем. Малое число бурьяну, или сухой степной травы, собранной нами около ночлега, служило для варения пищи. Здесь я получил донесения и от 2-й колонны, которая также с трудом подвигалась в горы вперед и у коей обозы и транспорты отставали. Я также получил в сей день рапорт от Бурцова и Фридрикса. Первый доносил, что неприятель нигде не показывался после сражения его 1 мая; второй же писал уже из лагеря при Ахалкалаках, куда уже прибыл, выступив с полком своим прежде из Манглиса. Мещеряков также доносил мне о выступлении своем с 3-м мусульманским полком из Салаглов 8 мая на присоединение ко мне.
12-го числа я продолжал путь свой и, поднявшись на самую вершину цепи гор, остановился ночевать при озере Топоравани[39].
18-го числа начались уже нескладные приказания, из коих первое мною полученное заключалось в том, что отряду моему не прежде будет движения, как к 19-му числу и чтобы я приготовил на все войска на четыре дня сена, тогда как уже известно было, что подножного корма еще не имелось, люди с трудом кормили своих лошадей на оставшейся под снегом в иных местах прошлогодней высохшей траве. Исполнение соответствовало приказанию: я передал его того же дня ввечеру всем частным начальникам, и никто и не думал приняться за невозможное. Другое приказание было послать офицера для осмотра моста Чилдырского и дороги к оному, из Ахалкалак ведущей, что мною уже было сделано и о чем я давно донес. Вальховский писал ко мне, что сие приказание отдано Паскевичем по докладу отношения моего за № 58, коим я именно и уведомлял уже об исполнении сего. Я тогда послал барона Аша, коему велел доехать до Карса и побывать у Панкратьева, что он исполнил.
19-го числа прибыл ко мне в лагерь главнокомандующий. Он был весьма доволен порядком, найденным у меня, за что и изъявил мне благодарность в приказах по корпусу. С ним прибыл и генерал-майор Раевский, командир Нижегородского драгунского полка. О нем надобно нечто сказать, ибо он занимал одно из первых мест в неприятных происшествиях, происшедших между нами в течение сей войны мнительностью Паскевича.
Он имел дарования и образование, но, при легкой нравственности и неуважении к своим обязанностям, любил хорошо поесть и был очень ленив, исполнен самолюбия, дерзок и часто неоснователен, а всего более нескромен, почему в то время и знакомиться с ним было тягостно. Он успел вкрасться в доверенность Сакена, который хотя и говорил мне, что никогда не имел к нему душевного уважения и расположения, но всегда проводил с ним время и отчасти тем навел на себя подозрение главнокомандующего, ибо он невольным образом был свидетелем нескромных поступков Раевского и слышал его насмешливые речи. Меня тогда удивляла сия связь, ибо Сакен был самый нравственный человек и превыше всего ставил свои обязанности. Он между тем видел запущенное и слабое состояние, до коего Раевский довел Нижегородский драгунский полк через невнимание свое, ветреность или через допущение злоупотреблений; ибо полк сей, коему даны были неслыханные способы, выводил с небольшим только 400 рядовых в строй, когда он мог их иметь близ 700. Лошади оного были старые, бракованные и некормленые, дисциплины почти никакой, и все заботы Раевского простирались только на выпрошение свидетельств к обеспечиванию собственного своего обоза и кухни. Его в полку не любили; он был взыскателен безвременно и без разбору, как ему в голову придет, не занимаясь постоянно сохранением или водворением порядка и устройства в полку. Раевский ужасно кричал и говорил с наглостью. Прикидываясь самым преданным человеком главнокомандующему, он часто бывал в милости и в немилости у него. Отпустив полк с майором Баратовым в самом несчастном виде, сам он остался в Тифлисе, или штаб-квартире своей, и нагнал уже полк в Гей-дорах на сборном месте всех войск и приехал с главнокомандующим, коего расположением он, казалось, вполне пользовался, что и давало ему некоторый вид надменности. Он был почти безотлучен от Паскевича, все сидел с ним в палатке, читал ему газеты, так что даже сие было смешно со стороны видеть; но отношения сии вскоре переменились. Ко мне он был всегда весьма предупредителен и насильно искал сближения со мною; но я, не уклоняясь от оного явно, дабы не оскорбить его, не подавался на сие сближение никогда, и хотя проводил с ним иногда время приятным образом, но избегал искомого им тесного сближения. В сих отношениях мы остались все время, и я не сомневаюсь, что Раевский был одной из главных причин, возбудивших мнительность Паскевича, столь многим повредившую.
Первые меры, предпринятые Паскевичем с прибытием его в лагерь, клонились к предохранению от чумной заразы; впрочем, управление всеми войсками еще осталось в моем заведовании. Принимая от главнокомандующего приказания, я раздавал их от себя в войска и делал все нужные распоряжения к продовольствию и снабжению разными потребностями всех войск; но беспорядок стал уже водворяться с первого дня прибытия главной квартиры, ибо приказания отдавались перед светом, а часто и задним числом, для очистки бумаг в дежурстве. Сие происходило оттого, что Паскевич спал много днем, а по ночам не мог заснуть; притом же, вопреки всем стараниям Сакена, он никогда не постиг важности отдания вовремя приказаний и никогда не умел соображать времени, редко отдавал одно постоянное приказание и по нескольку раз переменял оные.
21-го числа Паскевич потребовал к себе Мушиагу, бывшего турецкого коменданта Ахалкалак, у коего мы взяли крепость в прошлом году и который в ней оставался. Он его принял ласково. Это был тот самый, у которого захватили сына, следовавшего со мною в экспедиции ранней весной в Поцховский санджак. Он потребовал к себе также и тогдашнего коменданта Ахалкалак, коего принял также весьма хорошо. Паскевич был вообще со всеми ласков и предупредителен. Мы все радовались сему и приписывали сие терпению и умению Сакена. Все оживились, все шло хорошо, деятельно; но недолго продолжалось сие состояние его. Скоро опять ему стали мниться везде заговоры, козни…
Курганов опять поступил в прямые с ним сношения, и в приказании 21-го числа было приказано ему командовать карапапахской конницею, коей, однако же, не было, ибо он соединил при себе только Наги-бека с несколькими слугами, что составляло 15 человек, которые, проводив нас до своих деревень, разъехались; осталось несколько человек проводников, которые служили за большие деньги при отрядных начальниках и следственно не могли иметь и названия войска.
21-го числа были приняты все меры к движению, которое было направлено 22-го числа к селению Карзах. Поводом к сему служили известия о неприятеле, собиравшемся близ Ардануджа, что за Ардеганом, ибо, хотя о сборищах турок к стороне Карса из Эрзрума и получались известия, но там сборища эти еще только начинались, около же Ардануджа они уже были в готовности, и главнокомандующий хотел разбитием оных предупредить всякое покушение на Ахалцых или на Ардеган, а после того уже обратиться к Карсу. Все сие в последствии времени изменилось, но 22-го числа мы сделали один переход к селению Карзах, что у карапапахцев, по направлению к Ардегану.
24-го числа мы пришли к селению Геллеверди. Погода была постоянно дурная и холодная, переходы довольно велики, отчего пехота чувствовала несколько усталости, но в надежде скоро встретиться с неприятелем все были, сколько возможно, бодры и веселы, и труды превозмогали с удовольствием.
25-го числа мы сделали четвертый переход без дневки и прибыли к Ардегану, где и расположились лагерем. Корпусный командир уехал днем ранее в Ардеган и поручил мне довести весь отряд и главную квартиру.
Я оставался еще начальником всех войск и потому счел нужным снова разделить оные на отряды, ибо прежнее разделение не признавалось мною более удобным. Порядки маршей, отдаваемые во время переходов, вовсе несообразно с разделением войск, перемешали все части и сняли как будто ответственность с некоторых начальников. Один отряд был назван мною конным и состоял под начальством Раевского (в состав сего отряда входила вся кавалерия и часть конной артиллерии), другой был пеший и поручен начальству Фридрикса. Раевский находился на левом берегу Куры, Фридрикс же на правом. Турецкий деревянный мост через реку находился против крепости Ардегана. Мост сей был несколько ветх, и потому войска через него переходили с большой осторожностью и очень медленно.
Сие только была личина начальствования, ибо приказания отдавались разновременно и часто мимо меня, чем не упускали пользоваться не любящие порядка. Так, например, охранение общих отрядных табунов, предмет весьма важный, делалось без внимания и надзора начальников, из коих большая часть ограничивалась только блюдением о командуемой им части на законном основании, что было недостаточно в общем лагере, состоявшем из всех трех родов войск, ибо артиллерия не могла охранять своих лошадей, пехота не могла делать разъездов. Надобно было иметь терпение, чтобы не показать неудовольствия своего и надеяться на счастие, выручавшее нас во многих случаях.
27-го числа я сделал инспекторский смотр 3-му мусульманскому полку по всем правилами и нашел чрезвычайную послушливость в людях. Я разобрал дело о возмущении их и некоторых наказал ими же в кругах, посотенно, других ободрял, и сие имело весьма хорошее действие. После смотра я смотрел скачку их поодиночке, приказав каждому из них на всем скаку выстрелить – лучший прием их наездничества, что было исполнено с надлежащим порядком; но во время стрельбы у многих были ружья заряжены пулями, из коих некоторые просвистали весьма близко моей головы. Я не подал знаку, что заметил сие. Трудно было полагать, что сие было сделано с умыслом убить меня или кого-либо из начальников своих, но кто мог угадать мнение каждого из них? Пули сии пролетели, к счастью, не задев никого, хотя и очень близко. После всего был дан Мещерякову ордер, с объяснением недостатков и средств к исправлению оных, каковой и был препровожден к нему по команде через Раевского.
Между тем мы проводили время в совершенном бездействии и поедали без всякой пользы хлеб свой. Известия о собравшемся в Арданудже неприятеле подтвердились и нагнали по обыкновению на Паскевича нерешительность. Он совсем не знал, за что ему приняться; несколько раз по настояниям Сакена и Вальховского собирался он идти со всеми собранными при Ардегане силами атаковать турок в Арданудже, но опять отменял приказания. Все были в крайнем недоумении, и всех тревожило расстроенное состояние, в которое его повергло известие о неприятеле, обрадовавшее весь лагерь. Опасались дурных последствий от нерешимости его, и в самом деле время у нас пропадало, и мы сим давали неприятелю способ усилиться на обоих флангах, то есть против Ахалцыха и против Карса. Наконец, к довершению всеобщего беспокойства и неудовольствия, Паскевич утвердился в мыслях, что они могут нечаянно напасть, и, забыв все цели и распоряжения свои, он приказал строить укрепленный лагерь при Ардегане, оставив войска разделенными рекой, даже не в боевом порядке. Это нагнало бы робость на всякое другое войско, кроме Кавказского. Принялись строить редуты, но не переставали надеяться, что Сакену удастся побудить Паскевича к принятию чего-нибудь и разуверить его в опасности. Турки находились в 50 верстах от нас, и им предстоял бы слишком неравный бой с нами на равнинах Ардегана.
Но Паскевич, движимый, вероятно, совещаниями людей бездушных, окружавших его, оставался в самом тяжком положении; у него был даже вид испуганный и встревоженный, он ничего не приказывал обстоятельно, не спал по ночам, слушал всякий вздор и ожидал ежеминутно гибели, что нас приводило в отчаяние.
28-го числа были, однако же, сделаны некоторые распоряжения к выступлению войск; но вместе с тем было отдано в приказе того же числа, что на другой день похода не будет. 29-го числа мы оставались еще на месте, но к выступлению делались некоторые приуготовительные распоряжения. Видно было, однако же, что бездействие наше скоро прекратится. Я был засыпан целым рядом рапортов дежурного штаб-офицера Викинского, ибо штаб не принимал труда заняться распорядительной частью и все сведения требовал от меня, тогда как все им приказываемое клонилось к нарушению порядка, и требованная им часть была уже получаема мною на другой день при выступление войск, так что к исполнению оных не было никакой возможности, ибо они были писаны задним числом, как сие было обыкновенно у Викинского, ревностного исполнителя приказаний, отдаваемых Паскевичем перед светом другого дня, и у него число считалось не с полночи, а с восхождением солнца.
Главные тяжести должны были оставаться в Ардегане, и мы трогались в поход налегке, взявши с собою только нужное количество провианта.
Настоящее направление наше не было еще известно и самому Паскевичу, коего убедили двинуться против его желания, ибо, по известиям, получаемым им из-под Карса от Панкратьева о собиравшихся в той стороне неприятельских силах, он находил нужным и туда подвинуться; но Сакен и Вальховский настаивали, чтобы прежде разделаться с неприятелем, собранным в Арданудже, о коем носились уже слухи, что оный потянулся к Ахалцыху. А потому и не знали еще, куда идти, прямо ли к Ардануджу или наперерез дороги в Ахалцых. Достижение Ардануджа было сопряжено с большими затруднениями по гористому местоположению, и Паскевич все с большим опасением говорил о каком-то лесе близ Ардануджа, в коем он боялся встретить турок, дабы не завязать застрельщичьего дела, причем мы лишились бы преимущества многочисленной артиллерии нашей и вступили бы с турками в равный или даже в неравный бой по легкости их пехоты и способности вооруженных жителей перестреливаться и действовать в лесных местах, и сие было основательно.
30-го числа все войска тронулись. Авангард уже был в нескольких верстах впереди, и главная колонна вытягивалась за крепость по направлению Ахалцыхской дороги, как все движение было вдруг остановлено по приказанию главнокомандующего. Мы съехались к нему. Он был встревожен, то задумывался, то приказывал мне одному идти с частью отряда, говоря, что он с другой вернется к Карсу; то опять сам собирался со всеми силами идти по первому назначению; наконец все приказание переменилось, часть выступивших войск возвратилась даже из авангарда, и мне велено одному идти с остальными войсками. Причиною сему была, кажется, вновь полученная в ту минуту весть о приближении больших турецких войск к Карсу. Собственным ли убеждением действовал Паскевич или по убеждению Сакена и Вальховского, того не знаю; потому что в эту минуту нельзя было ничего разобрать: это была совершенная тревога, двигались взад и вперед, хотя ближе 40 верст нигде не было неприятеля, а до турок, собиравшихся против Карса или против Панкратьева, было верст до 200.
Я продолжал движение свое по Ахалцыхской дороге и, прошед несколько лесами, остановился ночевать близ небольшого селения, оставленного жителями, Тинадак.
Тут уже я получил распоряжения к моему назначению.
Батальон 40-го егерского полка по странному случаю принимал участие в сей экспедиции. Полк сей, из лучших в 20-й дивизии, отличился в сражении при Ушагане в 1827 году, где Аббас-Мирза с превосходными силами напал на Красовского. Полк сей много пострадал, но сохранил хороший вид и устройство. Паскевич, по недоверию к новым войскам и предпочитая уже старые войска Кавказского корпуса, которым он обязан был всеми успехами своими и славой, или по нерасположению своему к Красовскому, приведшему 20-ю дивизию в Грузию, не давал хода сим полкам и оставлял их всегда в гарнизонах. Таким образом, и батальон 40-го егерского полка провел всю зиму в Ардегане и ныне еще должен был оставаться в сей крепости, не принимая участия в военных действиях в поле. Обстоятельство сие крайне огорчало офицеров и нижних чинов сего батальона, но никто не смел поднять гласа жалобы.
Будучи однажды в бане в Ардегане, я разговорился с парильщиком своим, который был рядовой 40-го егерского полка из татар. Он изъявил мне, сколько сослуживцы его огорчались вечным заключением их в крепостях. На другой день я сопровождал Паскевича, возвращавшегося пешком из-за крепости в свою квартиру, и мы проходили мимо выставленного прекрасного караула сего полка перед домом, в который он входил. Чистота одежды и добрый вид сих людей ему понравились, и я воспользовался сим случаем, дабы доложить ему о рассказах банщика. Ему еще более понравились люди сии, и как он в ту минуту был в добром расположении духа, то спросил людей, желают ли они участвовать в походе. Единогласный громкий ответ всего караула изъявил душевное желание их, и Паскевич им тут же и обещал сие, при выступлении же войск велел назначить и сей батальон 40-го егерского полка, который вел себя в деле отлично, как сие будет ниже видно. Батальон сей сохранил за сие ко мне всегда особенную признательность.
Письма мои к Бурцову и князю Бебутову с большими затруднениями взялись отвезти карапапахцы, при мне находившиеся: они предполагали, что уже все дороги заняты турками. Я заплатил тогда гонцу 15 червонцев, и он повез бумаги сии, которые и доставил, пробираясь через горы тропинками.
По известиям, мною полученным через лазутчиков, я немедленно взял нужные осторожности и послал разъезды, но мы никого не видали в сию ночь. Сергеев находился у меня в отряде, командуя казаками, чем я был весьма доволен, ибо человек сей имел большую опытность в передовой казачьей службе, и я мог быть уверенным, что в сем отношении не будет сделано никакого упущения. Он сам назначал к сему офицеров и употребил в сем случае всю деятельность свою, на которую с некоторого времени редко можно полагаться со стороны донских казаков, весьма упадших в знании свойственной сему роду войск службы.
31-го числа я поднялся из лагеря при Тинадаке и, пройдя около восьми верст, открыл неприятельские пикеты, кои вскоре удалились. Я решился действовать по совести своей, и победа увенчала действия мои.
Турки никогда бы не были столь глупы, чтоб сунуться между двумя сильными отрядами, опирающимися на крепости, в Поцховское ущелье. Род войск и войны их не того рода, чтобы переходить таким образом от одного отряда к другому; но если предположить, что и возможно было бы их заманить и начать предположенную Паскевичем шашечную игру, то вышло бы, что все войско, разделенное на три части, во всех местах было бы слишком слабо, чтобы нанести удар неприятелю. Бурцов остался бы блокированным при Ахалцыхе, я при Ардегане, а сам Паскевич при Карсе, ибо против Карса собирались главные силы сераскира эрзрумского, и Паскевич с одним слабым отрядом Панкратьева и приведенными им из-под Ардегана войсками не был бы в состоянии разбить сераскира. Хороши были бы тогда все последствия сей войны! Турки бы везде осадили нас и, владея равнинами и открытыми местами, наводнили бы Грузию своими набегами. Но дела пошли иначе, как сие будет видно.
31-го числа, отправясь с Сергеевым для открытия неприятеля, мы взяли с собою около 100 казаков с расторопными офицерами, коих и разослали по разным местам, а сами подвинулись на самый край высот, находившихся над Цурцхабом, откуда нам открылась вся Поцховская долина и снегом покрытая цепь Арсиана.
Селения, лежавшие у ног наших, были без жителей, в самом Цурцхабе никого не было видно, по всей долине царствовала мертвая тишина, которую нарушил только выскочивший из-под ног наших и побежавший вниз к Цурцхабу (зверь), ломая кусты и осыпая рыхлую землю, катившуюся с шумом, пылью и каменьями вниз до самого дна долины. Не видно было, чтобы по белым вершинам Арсиана означалась черная движущаяся извилистая полоса, по коей бы можно заключить о переходе через гору войска или толпы народа; но при подошве горы виден был в иных местах столбами подымавшийся в тихую погоду дым; но как сих дымов было весьма мало, и они были отдалены один от другого, то мы заключили, что то не могли быть войска, а должны были быть несколько семейств, уклоняющихся от нас и остановившихся в поле для варения пищи.
Я уже полагал поездку свою тщетной и все известия, доставленные от лазутчиков о приближении неприятеля, ложными, как, окинув взором весь противоположный берег долины, заметил на оном нечто белеющееся верстах, по крайней мере, в десяти от меня в прямую линию. Виденное мною было похоже на несколько небольших палаток, расположенных около одной большой, имевшей более вид выбеленного памятника; спереди его было что-то черное, что можно было принять за укрепление. Мы долго вглядывались в сей предполагаемый лагерь или кладбище, которое по приметам моим должно было быть около селения Квели или Чабории; ибо я весною был в тех местах. Иные полагали, что то был лагерь и что казавшееся нам памятником была палатка начальника; но окружавших палаток было слишком мало, и притом по всему пути, по коему нам казалось, что войско могло пройти, не видно было ни одной живой души. А потому я решился дождаться возвращения войскового старшины Александрова, которого я, выезжая из лагеря, послал с партией вправо для обозрения горы Улгара и которому приходилось почти поравняться против Квели. Александров вскоре возвратился. Он был так оплошен, что ничего не заметил; над ним посмеялись, побранили его и, как уже было поздно, то в ту сторону другого разъезда я не послал, а, взяв все нужные осторожности, расположился ночевать. 1 июня я пододвинулся со всем отрядом вперед, с тем чтобы, заняв позиции на высотах против Цурцхаба, где я накануне был, послать осмотреть порядком казавшийся лагерь и, едва только стал ставить войска на позиции, как послышались мне вправо по Ахалцыхской дороге отдаленные пушечные выстрелы; а потому, не скидывая даже ранцев с людей, я повернул направо в намерении пройти берегом Поцховской долины до места сражения, которое должно было быть в долине сей около Дигура. Но поперечные глубокие овраги затруднили движение мое так, что я прибыл к спуску с горы Улгар уже перед сумерками. Пушечные выстрелы были уже довольно близки, но ни огня, ни сражающихся не было видно за высотами; неприятельский же лагерь, против которого я уже почти совсем находился, был явственно виден: нас отделяла от оного только Поцховская долина, имеющая в сем месте не больше трех верст ширины и препятствовавшая мне идти прямо на лагерь по крутизне и высоте берегов.
Не теряя времени и не смотря на усталость пехоты, которая все время шла почти снегом и перетаскивала по трудным местам орудия, я стал спускаться с Улгара по каменистым ступеням и косогорам оного. Но прежде чем продолжать описание сие, считаю нужным приложить здесь еще описание местоположения, на коем происходили сражения 1 и 2 июня, после чего и описание дел сих будет уже гораздо внятнее.
Поцховская долина разделяла завоевания наши прошлого года от земли аджарцев. Правый берег оной, по возвышенностям коего лежала дорога, ведущая из Ахалцыха в Ардеган, была нам довольно известна, ибо по ней часто войска ходили; левый же берег навещали мы только разъездами и экспедициями, а потому дороги, ведущие в Аджару и Шавшет[40] (по коим пришел кегия[41] с войском) нам были неизвестны. Река Поцхо неглубока и удобопроходима вброд почти везде, но спуски к ней и подъемы по ту сторону были весьма затруднительны и даже не везде проходимы. Главное из сообщений с правого на левый берег находится против селения Дигура, верстах в 25 или 30 от Ахалцыха. До сего места дорога из Ахалцыха, следуя низом ущелья, идет в теснине; далее, подымаясь на Улгар, она идет по возвышенностям и отдаляется от реки Поцхо; но хотя против Дигура и не имеется большего спуска (ибо дорога идет около самого берега), зато подъем на противоположную сторону весьма затруднителен: он идет по каменным ступеням, по коим я не провозил даже орудий в зимней экспедиции своей, ибо каменная дорога сия в иных местах так узка, что только одно колесо орудия может пройти, с другой же стороны надобно его поддерживать рычагами, и самое место по крутизне своей не везде позволяет людям идти подле дороги, и сие была главная дорога, ведущая в Аджару и Шавшет. От сего места, т. е. Дигура, вниз левый берег реки вообще командует дорогой, по которой следуют из Ахалцыха, на близкий ружейный выстрел; а потому войско, в сей теснине идущее, всегда подвержено выстрелам из лесистых возвышений, с обеих сторон к ней приближенных. В одном месте дорога несколько подымается по покатости горы карнизом и огибает отрог, плотно упирающийся к реке и закрывающий все протяжение ущелья для того, кто спускается с Улгара. Вот почему и я, спускаясь с сей горы, слышал уже очень близко выстрелы, но не мог за сим отрогом (имеющим около полуверсты) видеть сражающихся, так равно и они меня не видели и не знали о моем приближении.




