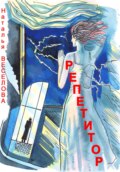Наталья Александровна Веселова
Друг мой, кот…
На самом деле мама Таня не пережила блокаду, а умерла в ней – только душа ее лежала где-то на Пискаревском или, может, просто под ногами гуляющих в Московском парке Победы, а тело по странному недоразумению осталось мыкаться по ленинградской земле – понял однажды ее сын, когда уже стал Скульптором и делал дипломную работу в Академии Художеств – работу, которую назвал «Блокадная Мать», а лепил со своей собственной. Скульптором стать он решил еще в детстве на Крестовском, когда вдруг услышал от нее же легенду о неизвестном художнике: будто бы нашли в пустой квартире восковую медаль с текстом: «Жил в блокадном Ленинграде в 1941 – 1942 годах»… «А откуда видно, что это – мать? – прицепилась дипломная комиссия. – Если мать – то при ней должен быть и ребенок, а у вас? У вас – просто мужественная изможденная блокадница, а мать там она или не мать – этого по работе не видно… – Это моя мать, – тихо ответил молодой человек. – Только меня в блокаду у нее еще не было…». И получил за диплом четверку. Еще счастьем показалось, ведь поначалу собирались поставить «три»…
Война и Скульптора зацепила за душу всерьез, поэтому первые десятилетия после Академии все лепил и лепил он из податливой терракоты то маленького трубача в последнем бою, то блокадную девочку с лошадиными коленками, то почтальоншу в беретике и с похоронкой в руках… Что с похоронкой, например, это зритель должен был сам догадаться, и что бой именно последний – тоже, и что девочка – не калека, а просто два года проголодала… А зрителем оказывался, прежде всего, советский худсовет. И из трубача норовил сделать пионера-горниста, из почтальонши – студентку, читающую жизнерадостные стихи, а у маленькой блокадницы требовал обтесать коленки… Ни на то, ни на другое, ни на третье Скульптор не шел по той же причине, по какой его мама не ела сахара, и в результате зарабатывал живые деньги только тошнотворной халтурой в пионерлагерях и детских санаториях, где приноровился по одним и тем же формам отливать беспроигрышных белых мальчиков в шортах и пилотках и редких девочек в теннисных платьицах… Издалека да среди зелени смотрелись такие веселые композиции прямо Летним садом – зато жить потом можно было полгода без напряжения… Скульптор ненавидел себя за это – если только не миф, что человек может действительно ненавидеть сам себя – до самой середины девяностых, когда оказалось вдруг, что можно получить богатый заказ, например, на величавую бронзовую Дашкову в корсете и с прической – и будет она стоять, радуя людей и собственного создателя, на гранитном постаменте прямо перед зданием местной администрации никому неизвестного тылового городка, где главой всем на счастье оказалась деловая красивая женщина, с детства выбравшая себе княгиню примером для вечного подражания… Так, кроме Дашковой, встали в торжественные позы или расселись по строгим креслам на малых площадках и в чахлых сквериках не самые спорные государи, особо на рожон не лезшие общественные деятели и один скромный композитор…
– Вам не скучно?! – спохватился вдруг Скульптор, вынырнув из глубокой зеленой воды воспоминаний и заметив, что Гостья с Червонцем в обнимку, давно уже тихо доевшая и суп, и котлету, сидит напротив него и смотрит ему в лицо насмешливо-ласковыми своими глазищами. – Что же вы меня не остановили? Я тут, старый болван, рассентиментальничался…
Скульптор непредсказуемо смутился: чего это он перед ней, а? И про маму, и про войну… Ей-то какое до всего этого дело? Молодая ведь еще, да вдобавок, из этого, как его… потерянного поколения. Небось, сидит и думает: «Вот прорвало старпёра на мою голову!». Он рассердился на себя, а сурово глянул на нее и буркнул:
– Вам, может, еще кофе? – и на ее качание головой – строже: – Тогда уже давайте берите ваше интервью, а то и так Бог весть сколько времени у меня отняли.
Гостья едва заметно усмехнулась.
«Ну, конечно, – мысленно рассвирепел Скульптор. – Вот сейчас точно думает: интересно, кто у кого отнял? Но если вслух скажет – возьму за шкварник и, блин, за дверь выброшу… Подумаешь, цаца!».
Но она вдруг отозвалась по-прежнему ласково:
– Какое интервью, помилуйте! Лучше того, что вы мне только что дали, и быть не может… Я из этого такую статью… – и она, поднимаясь, забрала и спрятала в сумку плоскую серебристую коробочку, весь обед промерцавшую на столе и определенную Скульптором как какой-нибудь крутой современный мобильник, оказавшийся, выходит, диктофоном!
Он даже осип, смешавшись от возмущения и ужаса:
– Нет, только не это… Это ведь совсем не то, что я… Подождите, я вам сейчас… Или нет, вот что: давайте просто бросим все это дело, а? У вас от других желающих отбоя не будет, а мне-то на что, строго говоря…
Гостья подняла на него именно тот женский взгляд, перед которым Скульптор всегда был беззащитен, как новорожденный котенок перед голодной вороной: это взгляд – покорный, чуть ли не отдающийся, и в то же время ненавязчиво торжествующий, нежно-победительный… Ее сливочного цвета рука с единственным крупным аметистовым перстнем и жемчужными ноготками робко легла ему на рукав:
– Ну, пожалуйста… Я ведь без вашего разрешения все равно ничего не напечатаю. Я вам принесу показать, когда будет готово; все обсудим, исправим, если надо… Не будьте… таким. Не обламывайте меня… – лукаво: – Я ведь уже загорелась вами, а вы…
Скульптор посмотрел на нее, стоявшую опасно близко, и понял, что на все согласен: эта ярко-синяя атласная блузка с мягкими рюшами вокруг довольно глубокого выреза теперь бросала холодный звездный отсвет на дымчато-серый раек ее глубоких и умных глаз, и он поймал себя на отчетливом желании вот прямо сейчас прикоснуться к ним губами… Он резко отстранился: только влюбиться ему сейчас и не хватало… А что… Запросто… Ему до семидесяти еще жить и жить – да и после… Нет уж, дудки, только не с этой. Сам ведь сразу понял: львица. А значит, искогтит всю душу, на лоскутки пустит, а потом и не оглянется. В таких случаях главное сразу – назначить непреодолимую дистанцию. Статью? Пожалуйста, мадам. Он не трус и не рохля, ваши нехитрые чары ему нипочем. Намеренно холодно бросил ей:
– Ну что ж, напишете – скиньте мне на ящик, я гляну в свободную минутку. А теперь извините, я человек занятой… Дорогу до метро найдете? Надо дворами выйти на Среднеохтинский…
– Спасибо, я за рулем, – улыбнулась Гостья. – В Петербурге родилась и выросла, так что уж не заблужусь…
– В Ленинграде: мы с вами не немцы, – жестко поправил Скульптор, не только немецким названием в ее устах уязвленный, но и ее еще раз доказанным феминизмом: машину водить – не женское дело, это и в двадцать первом веке любой нормальный мужик скажет.
– Но и не ленинцы, к счастью, – мягко огрызнулась она. – Так до встречи.
– Всего хорошего, – намеренно не сказал «До свидания», а про себя еще и добавил: «Нет уж, милочка, встречи с тобой мне больше не предстоит»…
Но к окну все-таки подошел – глянуть, за каким таким рулем она гордо обретается – и увидел, как журналистка выскочила из подъезда в тонкой отороченной светлым мехом курточке, да в машину – нырк! Что за шикарное авто – в льдистых февральских сумерках да с девятого этажа особо не разобрался: вроде, недорогая темненькая иномарка, «фольксваген» какой-нибудь, или престарелый «фордишка»… Прогревалась Гостья минут десять с выключенными фарами – и знай порулила себе в сторону набережной… Вздохнул Скульптор: скатертью дорожка…
Дом, в котором он вот уже тридцать лет обитал – сначала с семьей, а теперь один – давно известен был всему городу: именно сюда со всех его концов сосредоточенно стекались, как в паломничество, озабоченные невесты в отчаянных поисках свадебных нарядов, потому что в первом этаже располагался знаменитый магазин для новобрачных «Юбилейный», куда пускали только особых счастливчиков по талонам, выдаваемым в советских подозрительных Загсах… Окна квартиры-мастерской, доставшейся Скульптору после долгой и дорогой череды обменов, обманов и взяток, откуда в свое время его Жена традиционно ушла «к маме», из принципа не отсудив ни метра и забрав лишь свои носильные вещи, – эти окна выходили большею частью в серый и пыльный охтинский двор, и лишь одно, кухонное, – глядело на мир из узкого торца дома, позволяя видеть справа далеко внизу тускло-серебряный днем и чернильный ночью кусок несговорчивой Невы.
Скульптор еще раз вгляделся в сумерки – и вздрогнул: недалеко от его машины снова появилась та самая светлая «Самара». Если б он ее только по своему двору знал – то и глазом бы не моргнул: понятно, что соседская… Но тут… Он помотал головой: бред, кому он нужен, полунищий старик, живущий можно сказать, на пенсию… Ну, не совсем, конечно, а все же не столько приносят его редкие заказы, чтобы кто-то следил за ним с целью ограбления… Ведь бьется он над податливой глиной не так ради денег, как ради того, чтоб не лишиться последнего самоуважения… Чушь это все… Не эта «Самара» стояла у «его» магазинчика, когда брал любимую «Краковскую» и пару пива, не она ждала – и умчалась, когда от заказчика расстроенный вышел… А все же, если еще покажется – надо номер запомнить, мало ли психов… и мало ли «Самар»… Махнул рукой: глупости, не хватало еще начать об этом всерьез думать! Но и не о Гостье же…
Выйдя из кухни, задержался в прихожей у помутневшего от времени зеркала и даже фыркнул: герой-любовник, надо же! Оттуда сонно пялился потасканный яйцеголовый тип с розоватыми от недосыпания буркалами, гладко пробритыми бульдожьими брылами и клочковатыми бровями, одутловато-бледный и вообще отвратительный на вид… Скульптор с болью отвернулся, снова мысленно ругнув себя за давешние эксцентричные мысли о Гостье. Вот бы хохотала она, если б вдруг подглядела то мгновенное движение его души, когда ему на миг захотелось поцеловать ее! Идиот. Это ведь другое поколение – просто другое поколение, ничего больше. Его поздняя дочь ненамного моложе Гостьи – и где она теперь? Правильно, вышла за еврея и уехала с ним в Америку, где и живет себе припеваючи… Его принципиальным ровесницам такое даже в кошмарных снах не снилось. А для дочери и для журналистки этой – ничего особенного… Впрочем, ведь мама Таня когда еще говорила: «Каждому поколению – своя блокада…».
Глава вторая
Бетховен пришел к Нельсону
рано утром, хотя с давних пор знал (и неизменно удивлялся), что тот раньше полудня не встает. Хотя, строго говоря, зачем ему… Сам Бетховен с детства числил себя в «жаворонках», и это, как он тогда же и понял, обеспечивало ему немалые преимущества перед большинством населения, неспособным, выбравшись из постели по будильнику, ни запустить с места в карьер мыслительный процесс, ни совершать сколько-нибудь полезные действия – кроме необходимых физиологических… Было время – и он, лишь откинув одеяло, способен был сразу подскочить к инструменту – и пальцы сами летели, по клавишам, как бы выполняя радостный утренний ритуал приветствия… Давно и навсегда миновало то незабываемое время – уж двадцать четыре года, как он слышал последнюю музыкальную фразу – а именно, первое утреннее завывание муэдзина. Оно донеслось откуда-то снизу, из несказанно далекого, неведомого кишлака, и таким казалось надрывно-отвратительным, так душу скребло, как ржавый гвоздь… Чего только ни отдал бы теперь, чтобы услышать опять. Что-нибудь услышать. Кроме того, что доносилось через чуткую пуговицу продвинутого слухового аппарата, способного превратить для него чужой натужный крик только в едва слышный шепот – и на том спасибо ему, драгоценному… Правда, еще задолго до того, как престарелые родители, каждый забрав вперед по две пенсии и одолжив денег у всех, кто готов был не особенно надеяться на скорое возвращение долга, торжественно преподнесли ему на День рождения это чудо корейской техники, предназначенное для тех, кто уж и вовсе всем «Пням-Пень», Бетховен сумел научиться читать по губам и говорить, не слыша собственного голоса, не хуже любого глухого с рождения… Господи, лучше бы он таким родился! И не прожил бы на свете двадцать лет, наделенный слухом – цветным и объемным, стереоскопическим, как зрение иных странных животных… Он слышал так тонко и мучительно-счастливо, что, казалось, мог бы, если б захотел, и соловьиный концерт на десятки голосов записать нотами, и шелест ветра в ветвях рябины-ровесницы под окном, на общественном газоне – ровесницы потому, что отец взял – и самовольно посадил ее в день рождения сына…
Бетховена произвели на свет самые простые люди: папа его всю жизнь водил неуклюжий троллейбус двадцать четверного маршрута, что шел от Московского Парка Победы до Троицкого собора, а мама трудилась рядовым бухгалтером в том же троллейбусном парке и имела три платья: два – коричневое с воротничком и синее на мысик – для работы, а третье – бордовое бархатное – для театра и гостей. Не от бедности – денег в семье хватало: отец получал неплохо, никогда не пил больше двух рюмок в праздник и других излишеств себе не позволял – но только мама не понимала искренне: а зачем еще другие платья-то? Ведь больше одного за раз на себя не наденешь! А менять их… только хлопоты одни… Необычайные музыкальные способности любимого сынка она приметила первая – услышав, как точно попадает он в мотив старинной песни, когда в Новый Год, выпив и закусив, как положено, затянули они за столом с подругой любимую: «Окрасился месяц багрянцем…» – а мальчишечка-то вдруг давай подпевать – да чисто так! Голосишко слабенький, писклявый еще, как и подобает тощему четырехлетке, а мелодия – ну ты подумай! «Ты, Любка, это… Учителю музыкальному, какому ни есть, нашего пацана покажи… Может, он у нас будет этот, как его… Фамилия еще немецкая, а может, из евреев… Рихтер!» – решил тогда же призванный в качестве третейского судьи отец.
«Да какой там Рихтер! Если дело так и дальше пойдет, то Рихтера этого ваш мальчик скоро мелко видеть будет!» – постановила спустя две недели Елена Ивановна, учитель музыки в купчинской типовой школе, прослушав по просьбе знакомых стеснительного мальчонку с каштановой челкой и серьезными карими глазами. Она позволила ему позабавиться с видавшим виды школьным фортепьяно, потеребить кремового цвета клавиши с мелкими трещинками, и, внимательно прислушавшись к извлеченным из черного облезлого брюха школьного «инструмента» звукам, предложила заниматься частным образом у нее дома, плату запросив неожиданно умеренную. Елена Ивановна оказалась честным человеком: на мамино удивление смехотворностью запрошенной суммы, ответила, не дрогнув: «Это для того, чтобы стоимость уроков не стала для вас решающим фактором. Музыкальных дебилов, чьи родители надеются сделать из них выдающихся исполнителей и платят по полной за мои ежедневные муки с их чадами, у меня достаточно. А ваш ребенок должен заниматься в любом случае – неважно, есть у вас деньги или нет. Закопать такой талант вы не имеете права – ни по какой причине. А раз случай или – называйте, как хотите – привел вас ко мне, то и я не могу отказываться. Не все за деньги в этом мире делается…».
Елена Ивановна не только поставила Бетховену руку, внедрила в его восприимчивую голову твердые теоретические знания, заложила основы будущей технической виртуозности, подготовила к поступлению в музыкальную школу при Консерватории. Она сумела заставить его самого словно прорасти в мир звуков – или, может быть, прорастить все самые прекрасные звуки мира в себе – а не просто научиться красиво извлекать их из коллекционного рояля от «Теодора Беттинга», унаследованного ею от чудом сохранивших его в революцию предков и любовно отреставрированного в новое время одним из штатных настройщиков Мариинки… «Мой рояль среди других роялей, – шутила она, – как скрипка Страдивари среди всех прочих…». Это еще не все – у нее, не имеющей даже традиционной кошки толстой и потной старой девы в роговых очках и с тощим кукишем на затылке, любимый инструмент был вместо родного существа, нуждающегося в ласке и заботе и страдающего в ее отсутствие… Может, действительно дело было в волшебном рояле – кто знает! И правда, вполне достойный «Красный Октябрь» из комиссионки, на который, просовещавшись на кухне всю ночь и к утру приняв жизненно важное решение, однажды разорились родители, не зачаровывал так своими звуками, не гудел так таинственно и нежно сумрачным духовитым нутром, не вызывал порой в сердце таких неодолимо подступающих рыданий… Музыка стала для Бетховена праздником и счастьем – а не предначертанной карьерой неизменного победителя скучных музыкальных конкурсов и юношеских никчемных олимпиад… Он бы, если б не довлела предначертанность, может, даже и не сделал бы музыку своей профессией, смутно чувствуя, что получать деньги за то чувство гармонии и восторга, которое она ему давала – все равно что брать плату за близость с любимой женщиной или за долгую глубокую беседу с истинным другом… Но других путей, как будто и не виделось: иные области человеческих занятий, особенно те, что зиждились на точных науках или технике, вызывали у него явное и тошнотворное неприятие, доходя даже до проявлений его самого пугавшего идиотизма. Например, упражнения по алгебре и геометрии в школе, что в простоте своей были подвластны даже тем, кто давно и безнадежно болтался между двойкой и тройкой, никогда не поддавались Бетховену – с каким бы отчаяньем обреченного он ни кидался на штурм… Да и родителей так подкосить было невозможно: причины им ни при какой погоде не объяснишь – а ведь высшей гордостью и счастьем стал для них, простых трудовых людей, нежданно, будто с неба упавший к ним талантливый сын-музыкант, после школы сразу принятый в недоступную, как далекая зеленая звезда, Консерваторию по классу фортепьяно, сын, которому предстояло еще и еще раз подтвердить для всего мира ту загадочную истину, что – вот может же быть, ядрена вошь!
В самом начале второго курса его совершеннолетие скромно отпраздновали дома с сияющими родителями, новым другом-валторнистом и стеснительной, впервые приведенной в дом одногруппницей Наденькой, с которой Бетховен только утром первый раз поцеловался в своем подъезде и оттого был совершенно неприлично (все время приходилось украдкой поглядывать на ширинку) счастлив. А через неделю пришла повестка в парадоксально всеми позабытый и по той причине раньше в расчет не принятый военкомат. Мама сама ходила к декану – и получила полную и закономерную его поддержку: такого талантливого студента можно считать частью золотого фонда страны, и уж конечно отсрочку ему сейчас выхлопочут, а там… «Не надо, – неожиданно уперся несуществующим рогом безусый юноша. – Отслужу, как все. Не сахарный. Я комсомолец. Мой талант теперь никуда не денется. Но благодаря государству он развивался. Это оно меня бесплатно учило и воспитывало. Я ему обязан. И точка на том». Терпеть не мог, всеми силами души презирал Бетховен здоровых парней «кровь с молоком», объявляющих себя чуть ли не инвалидами, охотно записывающихся в сумасшедшие – и все для того, чтобы не послужить Отечеству, как всякий нормальный мужчина от века обязан. С души воротило, когда слышал их сучье скуление: «Не всем же по окопам с автоматом бегать… Я, например, Родине послужу своим талантом…». Ага, Родине, как же… Себе ты послужишь, а не Родине. А служить – это значит, не как сам хочешь, а как долг требует. Тьфу, ур-роды…
А может, Бетховен и кривил душой: просто передышки малой захотелось: словно отступить от музыки на шаг – и подумать… И понять, что только она одна в жизни нужна. И еще, может, Наденька, если согласится, конечно. Когда он объявил ей о своем решении, Надя плакала безутешно, но, видя непреклонность, смирилась, а в вечер прощания затряслась у него на груди: «Я буду ждать, буду… Ты верь в меня, милый, милый…». Они стояли, обнявшись, у окна в ее пустой квартире в потоке последнего питерского солнца, и Надя, не поднимая лица и обливаясь слезами, быстро-быстро зашептала ему в шею: «Хочу, чтоб ты стал у меня первым… И единственным… Сейчас… Прямо сейчас…» – но он заставил себя отстраниться, почти с силой выдравшись из ее цепких мокрых объятий: «Вернусь – и стану, – а про себя добавил: – По крайней мере, тогда будет ясно, насколько преданно ты меня ждала…» – а выйдя, замер вдруг на месте, вспомнив о своей мимоходной мыслёнке: ведь о любимых так не думают, наверное… И действительно, с Надей он больше так никогда и не увиделся. Без всяких угрызений совести тою же ночью в очередь с валторнистом в общаге оттрахал по самое не хочу сговорчивую разбитную брюнетку Евгению с музыковедческого, а поутру, провожаемый враз постаревшими и неожиданно маленькими родителями, трогательно жавшимися друг к другу на остром ветру, уже стоял среди других разномастных призывников во дворе районного военкомата. От паркетной службы в музыкальной роте Бетховен с возмущением отказался еще раньше, поэтому будущее его в те минуты было покрыто такою же тьмой, как у остальных испуганных парнишек как, собственно, это бывает всегда и у всех, и как должно быть по своей сути…
Несомненной казалась только музыка.
Тьма рассеялась окончательно спустя почти два года, когда он пришел в себя и не сразу смог открыть глаза: невероятная, ярко-красная боль рвала его голову словно хищным клювом, горизонтально распластанное тело терзала мучительная железная вибрация – но оттуда, из этой невыносимой красноты и тряски, не доносилось ни одного звука. Бетховен бесконечно долго открывал глаза, как Вий, боролся с каменными веками – пока, наконец, удалось приподнять их и удержать ненадолго… Тогда он понял, кто он сейчас: груз-триста в вонючей раскаленной вертушке, а рядом, безмолвный и неподвижный, лежит другой такой же «трехсотый». Мало того, за те несколько секунд, что смотрел в полумрак, Бетховен даже успел углядеть светлый, почти что белый чуб, единственный дембельский чуб такого цвета в их взводе, с которым сразу ассоциировались ультрамариново-синие на тонком смуглом лице бедовые глазищи… Теперь он торчал в своей странно нетронутой, как снег на вершине горы, первозданности над багровой, без единого белого островка, коркой присохшего бинта, сплошь покрывавшей лицо его земляка-питерца, взятого в армию тоже со второго курса – но только из Академии Художеств. С ним Бетховену во взводе скорешиться не пришлось – даром, что зёмы, да как-то не приглянулись друг другу с самого начала – но и до неприязни не дошло: с симпатией вспомнилось вдруг, даже сквозь боль, как лихо, едва ли не одним замысловато-изгибистым движением, тот вдруг стряхивал с карандаша на листок чей-то точный и законченный образ в нескольких линиях… Особо запомнились добрый губастый урюк Узукбай, и норовистый горбоносый джигит Аслан, и пучеглазый мясистый бульбаш по прозвищу Картошка… И в духаны, когда выпадало, парень этот носился не за ходовыми видеокассетами с порнухой или блестящими тенями для капризной бабы из медсанчасти, а все норовил выпросить у духанщика особенные какие-то авторучки, рисовавшие, будто тушью, цветной и черной, да пачку бумаги, вроде альбомной… Тогда, в вертушке, художник не стонал и не двигался: то ли в глубокой отключке лежал, то ли смилосердствовался санинструктор, вкатил промедолу…
Теперь, двадцать четыре года спустя, обладатель все такого же светлого чуба, в котором, правда, может, и седины уж было больше, чем природного льняного цвета, вставал поздно, но Бетховену всегда бывал рад – даже спозаранку. Улыбнулся, открыв дверь – хотя улыбка его теперешний лик украсить, конечно, не могла. Бетховен думал как-то подготовить парня сначала – все ж не каждый день приходилось им вспоминать о том существе из давнего прошлого, которого звали они не иначе, как Мразем – вот именно так: в женском роде, но с мужским склонением. Но понял, что подготовить не получится: удивительная весть сама так и рвется наружу, да и кореш его, небось, не красная девка – в обморок не свалится. И, хотя, как и сам Бетховен, на весть эту он тоже никогда особо не надеялся, но все равно ревниво ждал ее втайне. Ждал с того самого дня.
– Он здесь, – сказал Бетховен. – Я нашел его, Нельсон.
«Тот самый день» для Нельсона был во времени не совсем тот, что у Бетховена, потому что в трясучей «вертушке» он так в себя и не пришел – это произошло на целую неделю позже, в ташкентском госпитале. Но суть от этого не менялась: в тех смутных нездешних областях, где обитают страховидные химеры очищенной ненависти и златоликие, но не менее опасные привидения вечной любви, времени, как известно, не существует. Тишина, внезапно навалившаяся на него еще там, под отвесной зеркальной скалой, неумолимо отразившей весь замедленный, как в кошмаре, полет короткого огненного змея, неспешно плывшего ему прямо в голову – от которого, тем не менее, совершенно невозможным оказалось увернуться, – та тишина ожила сначала голосом его жены Верочки. «Все хорошо… Все хорошо… Все хорошо…» – повторяла она с такой непререкаемой убедительностью, что Нельсон, поверивший сразу и безоговорочно, потом до самой середки нутра своего удивился – как это она ухитрилась, сидя у его койки и достоверно зная страшную истину во всей ее невероятности, врать так нежно и правдоподобно. Она, которая и в школе, не выучив урока, не могла ответить рассвирепевшей училке традиционно-обиженным: «Я учи-ила…». В таких случаях Вера просто начинала беззвучно плакать, опустив голову, но даже самая невинная ложь не шла у нее с языка, уверенно застревая где-то на полпути. Их расписали сразу после выпускного вечера – двух влюбленных несовершеннолетних, за пять месяцев до этого неумело сделавших ребенка на узенькой кушетке в гостях у какой-то случайной подружки. Через неделю после свадьбы у молодой жены с не устоявшимися еще месячными и крайне субтильного телосложения приключился закономерный выкидыш – причем какая-то злорадная медицинская сволочь, без всякого наркоза вывернувшая наизнанку обливавшуюся густой коричневой кровью девчонку, не преминула сообщить ей прямо на столе пыток, что погибший плод был женского пола… В госпитале, куда она примчалась ночью прямо с самолета – бледная до зелени и с прыгающими губами – с ней тоже не церемонились, а без всяких околичностей сообщили, что ее двадцатилетнему мужу, студенту ленинградской Академии Художеств, а ныне рядовому СА, уже давно отпраздновавшему вместе с другими дембелями долгожданные «сто дней до приказа», слегка скользнула по верхней половине лица огнеметная струя, в результате чего упомянутой половины как таковой более не существует, как и правого глаза – целиком, а левого – на три четверти… Им обоим вместе – потому что в жизни с той минуты они больше не разлучались ни на день – предстояло вынести одиннадцать пластических операций на том, что когда-то было ее любимейшим лицом в мире, и семь – на остатке левого, раньше синего, как горное озеро, глаза, который лишь через четыре года начал различать свет и тень, еще через два – движущиеся силуэты, после этого совсем скоро расплывчатый мир немного окрасился – но на том улучшения закончились навсегда. Ни читать самостоятельно, ни рисовать ее лучшему в мире мужу больше никогда не пришлось…
Но в самый первый день Праздника Возвращения Звуков Верочка, припав к груди возлюбленного, только твердила, что счастлива тем, что он жив и они вместе, обещала, что огромную пухлую повязку скоро снимут навсегда («Ну, конечно, ожог придется немножко полечить, а может, даже и прооперировать – ну, да это пустяки…»); что с глазами тоже обойдется, ведь задело буквально только краешком («Ну, правый-то глазик похуже, зато доктор сказал, левый целенький, почти весь целенький…»); что они скоро поедут домой в Ленинград («И мама испечет «Наполеон-мокрый» – или, может, ты больше сухой хочешь, с таким белым-белым кремом?»).
Он почти успокоился и, сжимая ей тонкую кисть, спросил, благо хоть рот уцелел в неприкосновенности, о том, что сразу стало – главным: «Вер, не знаешь… Кроме меня… Еще кто-нибудь из взвода…» – и даже в непроницаемой темноте догадался, что она быстро-быстро закивала. Через час на его кровати сидел невидимый земляк-музыкант, хорошо запомнившийся по дням совместной тяжелой службы своей какой-то несеверной, смугловатой мужественной красотой – и тем, как, оскалив голливудские зубы на черном от копоти лице, он вдруг схватился обеими руками за уши и стал сползать спиной по зеркальной скале, а между пальцев с обеих сторон толчками выплескивались маленькие фонтанчики крови – и не удалось рвануться на помощь, потому что… Потому что больше ничего уже никогда не удалось… «Он не слышит… – шепотом, противоречащим смыслу слов, предупредила Вера. – Но по губам уже научился понимать немножечко… Если артикуляция четкая…». Так и скорешились глухой со слепым. Первый надсадно ревел, инстинктивно считая, что если удастся докричаться до себя самого, то и другие, верно, лучше услышат, а второй изо всех сил, до боли в губах, изображал, почти рисовал ими буквы и слоги: «Ну – ты – Бет – хо – вен!!!» – и слышал в ответ словно рев реактивного самолета, от которого звенела палатная лампочка: «От Нельсона слышу!!!!!».
Хорошо было тому, настоящему Нельсону: его единственный глаз видел Божий мир отчетливо, и он, если б захотел, мог бы рисовать…
А этот Нельсон способности к рисованию унаследовал от отца. Тот никогда ничему такому целенаправленно не учился, считая умение красиво изображать на бумаге интересные предметы и явления чем-то лишним, мешающим важным мужским делам и годящимся лишь в невинное хобби. Во всяком случае, не заслуживающим того, чтобы становиться профессией настоящему мужику, предназначенному для глобальных мыслей и великих свершений. Другое дело, превратившись в директора солидного питерского завода, то есть, продемонстрировав миру свою доказанную состоятельность, потешить иногда таких же солидных друзей, собравшихся на праздник у его очага, молниеносным наброском, изображающим то летящую к солнцу лошадь, то растерянный парусник среди бури, то молодую любовницу приятеля, стушевавшуюся в присутствии презрительно настроенных толстых чужих жен… И, разумеется, сделать вид, что к тебе не относится одобрительный гул, вызванный пущенным по рукам листком: «Толян, да ты талант! Жаль, в землю закопал!»
У матери Нельсона в работе ради хлеба насущного не было нужды, причем, даже такое скучное и малоинтересное занятие, как ведение хозяйства, жену обеспеченного человека на двадцать лет старше ее, обошло: это безраздельно поручалось приходящей домработнице – а бывшей ученице Вагановского училища осталось, по идее, только заниматься единственным сыном, любимцем и баловнем. Но ничего подобного: материнский инстинкт был развит у нее настолько слабо, что она едва интересовалась его школьными успехами, не всегда безупречный дневник подписывала не глядя, а от сына откупалась нескончаемыми подарками и кондитерскими изысками. Мадам Марго было чем заняться в этой жизни. В отличие от своего непробиваемого мужа, она посвятила свое существование тому, чтобы разнообразные таланты, наоборот, не закапывать. Исключенная из Вагановки за крайнюю долговязость и отсутствие каких-либо дальнейших перспектив, она, тем не менее, завела в супружеской спальне балетный станок и по утрам делала бесконечные батманы, жестко считая вслух: «И-раз, и-два, и-три…» – и так до бесконечности. Решили в свое время ее интеллигентные родители, что коли уж из девочки не получилась великая балерина, то, может, музыка станет ее звездной судьбой. В результате, теперь в гостиной стоял огромный полированный рояль красного дерева, и мать бесконечно, до судорог в пальцах доводила до совершенства какой-нибудь упорно не поддающийся ее виртуозности прелюд – и, опять же, металлический ее голос долбил неизбежное: «И-раз… и-два…». Рядом с фортепьяно уверенно примостился дорогой импортный мольберт, на котором всегда торжественно присутствовал холст с незаконченной маминой фантазией маслом или пастелью: уроки живописи она брала уже сама, во вполне сознательном возрасте, дисциплинированно посещая какой-то левый хозрасчетный класс, где больше рассказывали о «течениях», чем пытались побудить учащихся хотя бы полуграмотно управляться с кистью. Но красивое свидетельство об окончании было честно выдано, что позволило Марго при каждом случае с полным правом вворачивать в разговор: «Вот мы, профессиональные художники…». Ее поставленными почти на серийное производство картинами, обрамленными в дорогие резные и золоченые рамы, было увешано все свободное пространство на стенах квартиры, исключая, пожалуй, только санузел, и многочисленные гости, бродившие в преддверье застолья с икрой и шампанским по этой вечной экспозиции, сдержанно хвалили и хромоногую лошадь с длинным туловищем, и аляписто-фиолетовый закат над неузнаваемой Невой, и некую многоугольную фигуру с неожиданно безумными глазами наискосок, определенную автором как «Портрет мужа художницы»…