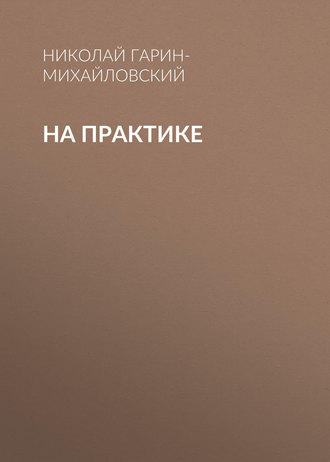
Николай Гарин-Михайловский
На практике
II
Уже месяц прошёл с начала моей практики.
Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же чёрный, как весь окружающий нас уголь. По-прежнему, как ни брошу в топку – всё могила, т. е. бугор по середине, но когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:
– Ну, как он?
Григорьев снисходительно отвечает:
– Ничего, – пойдёт дело!
Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я – приятель и мы трясём руки друг другу так, что надо ещё удивляться, как ещё не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.
Все на станции знают меня, студента-практиканта.
– Что, барин, – говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя, – видно, не на белой земле хлеб растёт?
– Да, тяжёлый труд!
Чтоб поспеть к 8 часам утра на смену и иметь хотя 30 ф. пара, надо начать растапливать паровоз с четырёх часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия и, следовательно, прямой убыток и Григорьеву и мне.
Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брегетах, – род кирпичей, – пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардифф даёт жар, а пламя даёт нью-кестль, чёрный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.
Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это ещё далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к 12 наконец въезжаем в паровозное здание.
И тут ещё до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она ещё горяча. Часам к 2 всё кончается. Надо ещё обмыться и мы идём в ванную, моемся, чистимся и всё-таки чёрные и грязные идём обедать.
Часа в три я попадаю на квартиру: напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из 48 часов – 12 часов отдыха. По шести часов в сутки. Всё остальное время в работе и в какой работе!
– Тормоз! Тормоз!
– Угля!
– Поддувало!
О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец и другим на весу пробиваю шлак там в слившейся под одно с колосниками огненной массе.
Жар, пепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.
Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:
– Ну, что ж вы там уснули, что ли?
И опять, убежавшие куда-то, силы возвращаются и снова слышатся глухие удары из моего склепа.
– Ну, скорей назад, – кричит Григорьев.
Вылетает сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колёсами пролезаю и я в то мгновение, когда колёса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но этого всё-таки достаточно, чтобы я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится – судорога, зацепится нога?
Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно и забыл о моём существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать вёрст – всё это я уже проделываю с искусством обезьяны.
Я сказал: Григорьев не увидит.
Но он всегда и всё видит.
Раз ещё в начале как-то я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтобы удержаться на нём и я стал медленно сползать вниз к полотну прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз N 34.
Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время всё сползая, я всё смотрел туда вниз, на бегущие мимо меня колёса вагонов, угадывая которое из них разрежет меня.
Так бы и случилось, потому что я, в конце концов, упал прямо под колёса… остановившегося вдруг поезда. То Григорьев остановил.
По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью, – от Григорьева я так и не добился, – но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контрпар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щёлкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек, – я не слыхал. Всё, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.
Ещё большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.
Как известно, паровоз соединён с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно двигаться в известном пределе как паровозу, так и тендеру.
Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединённые неподвижно паровоз и тендер не смогли бы проходить.
Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикреплённая к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идёт по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам, расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.
Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть её оттуда уже больше не мог.
Всё это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с ещё большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:
– Мне захватило ногу.
Если бы Григорьев повернулся, чтобы сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, де закрывая регулятора, дал контрпар.
Сила для этого нужна неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперёд, что или убил, или изувечил бы и был бы достигнут как раз обратный результат – паровоз в том же направлении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперёд.
Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а, главное, испугом.
– Будете в другой раз ворон ловить? – ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперёд, – только время с вами теряешь, да паровоз портить. Вот хорошо, что старый всё равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы и с вашей ногой.
И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:
– Тормоз!
Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:
– Лупится, проклятый, хоть ты что.







