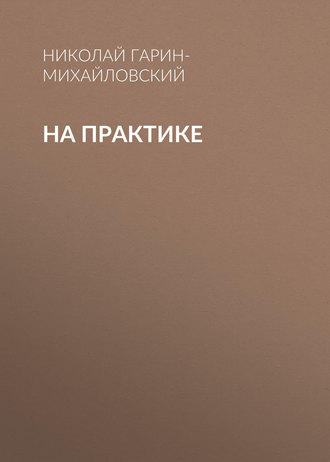
Николай Гарин-Михайловский
На практике
III
Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом и казалось на свете только и были: Григорьев, я, да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтобы он поменьше ругался. И всегда он ругался и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.
Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал, стоя, он вдруг раздражённо крикнет:
– Ну, что носом тычете: всё равно никакой пользы нет от вас – ступайте спать.
Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углём не проводил в топку, укладываюсь в мягкий нью-кестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, ещё вижу над собой синее тёмное небо, далёкие, яркие, как капли росы, звёзды и уже сплю мёртвым сном.
Никогда потом, на самых мягких сомье я уже не спал так сладко, так крепко.
IV
– Сегодня моё рожденье, – сказал как-то в июне Григорьев, когда наступила обеденная пора, – в харчевню мы не пойдём, а будем свой пирог есть и другое что.
А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судком худенькая, лет пятнадцати девочка.
Она была в светлом платочке, от чего маленькое загорелое лицо её казалось ещё темнее, рельефнее выделялись только её большие, горящие как уголь, глаза.
Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причёсанный, ворчал:
– Вишь, воструха, а оробела здесь, – и усмехнувшись, добавил:
– Моя дочка… Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет… Да и я не хочу… Ну, их…
Он повернулся к дочери и крикнул:
– Вот, если бы дома Маруся, да такая тихоня – ох, хорошо бы было!..
Маруся уже подавала отцу судки, а затем, и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу всё и меня в том числе.
– Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем Бог послал.
Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал её руку.
– Ишь, каким кобельком, – усмехнулся Григорьев.
Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал её по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:
– Какая там ещё «Марья Григорьевна», да ещё «вы», – вбиваете ей в голову, и так огонь девка, сладу нет, – Маруська, ты, да за вихры, чтоб понимала…
Маруська только носом потянула, да бросила на меня вызывающий весёлый взгляд.
Впечатление чего-то ещё находящегося в работе и закончены пока только эти чудные живые, всё говорящие глаза.
Эти глаза остались в памяти. Мы уехали на пристань делать там маневры. Пред нами было море выпуклое, полное напряжения, всё в блёстках и чувствовались в нём глаза Маруси.
Ночь пришла, шум моря волновал и опять глаза Маруси, овладевшие вдруг моей душой.
В этот день я сделал подарок Григорьеву.
Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению, на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:
– Вы читали Лермонтова? Помните?
И он начал декламировать: «отец, отец, оставь угрозы»… Декламировал он так быстро, так не звучно, что если не знать, что именно он говорит, – понять ничего нельзя было бы.
Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:
– Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.
Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплёт с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и всё не решался передать книгу Григорьеву.
День его рожденья был очень удобный случай.
После обеда я отпросился на минуту домой и принёс Лермонтова.
Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочёл название и, радостно встрепенувшись, сказал:
– Ну, вот так спасибо, такое спасибо, – ночи спать не буду, пока всё, что вырвано, не перепишу.
– Списывать не надо, – вот прочтите, чья это книжка.
Григорьев, поняв в чём дело, растрогался до слёз. Вытирая их жёстким рукавом, он говорил:
– Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал… И как раз в такой день, точно знали вы…
И успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:
– Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери – кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи… Сколько раз замерзал совсем… А сколько били и как били… Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом… Тут вышло вроде замирения у меня, – женился я… Был уж кочегаром… Вот также всё не дома, да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут… так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого и дверь не заперта, – иди кто хочешь, бери что хочешь… И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться… А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и Богу душу отдала… Так убивалась перед смертью… да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться… Что мне врать? Была бы воля, – лёг бы за неё в гроб и сейчас даже…
А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребёнок, принёс мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:
– Переписал таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.







