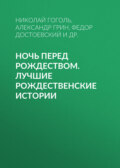Николай Лесков
Обойдённые
Часть третья
Глава первая
Живая душа выгорает и куется
Ничего не было хорошего, ни радостного, ни утешительного в одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь под самый корень, и в утешение ей не оставалось даже того гадкого утешения, которое люди умеют находить в ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человек, и Дора не без основания часто называла ее «невозможною».
В тот самый день, ниццскими событиями которого заключена вторая часть нашего романа, именно накануне св. Сусанны, что в Петербурге приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльного и неприятного месяца июля, Анне Михайловне было уж как-то особенно, как перед пропастью, тяжело и скучно. Целый день у нее валилась из рук работа, и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидеть в свою полутемную комнату. На дворе было около десяти часов.
В это время к квартире Анны Михайловны шибко подкатил на лихаче молодой белокурый барин, с туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего не выражающей физиономией. Он быстро снялся с линейки, велел извозчику ждать себя, обдернул полы шикарного пальто-пальмерстона и, вставив в правый глаз 'стеклышко, скрылся за резными дверями парадного подъезда.
Через минуту этот господин позвонил у магазина и спросил Долинского. Девушка отвечала, что Долинского нет ни дома, ни в Петербурге. Гость стал добиваться его адреса.
– А лучше всего, – просил он, – попросите мне повидаться с хозяйкой.
«Что ему нужно такое?»—раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.
Гость между тем топотал по магазину, в котором от него разносился запах гостинодворского эс-букета.
– Мое почтение! – развязно хватил он при появлении в дверях хозяйки и тряхнул себя циммермановской шляпой по ляжке.
Анна Михайловна не просила его садиться и сама не села, а остановилась у шкапа.
Анна Михайловна знала почти всех знакомых Долинского, а этого господина припомнить никак не могла.
– Вам угодно адрес Нестора Игнатьича? – спросила она незнакомого гостя.
– Да-с, мне нужно ему бы отослать письмецо.
– Адрес его просто в Ниццу, poste restante.
– Позвольте просить вас записать.
– Да, я говорю, просто: Niece, poste restante.[41]
– Вы к нему пишете?
Анна Михайловна взглянула на бесцеремонного гостя и спокойно отвечала:
– Да, пишу.
– Нельзя ли вам переслать ему письмецо?
– Да вы отошлите просто в Ниццу.
– Нет, что ж там еще рассылаться! Сделайте уж милость, передайте.
– Извольте.
– А то мне некогда возжаться. – Гость подал конверт, написанный на имя Долинского очень дурным женским почерком, и сказал, – это от сестры моей.
– Позвольте же узнать, кого я имею честь у себя видеть?
– Митрофан Азовцов, – отвечал гость.
– Азовцов, Азовцов, – повторяла в раздумье Анна Михайловна, – я как будто слыхала вашу фамилию.
– Нестор Игнатьич женат на моей сестре, – отвечал гость, радостно осклабляясь и показывая ряд нестерпимо глупых белых зубов.
Теперь и почерк, которым был надписан конверт, показался знакомым Анне Михайловне, и что-то кольнуло ее в сердце. А гость продолжал ухмыляться и с радостью рассказывал, что он давно живет здесь в Петербурге, служит на конторе, и очень давно слыхал про Анну Михайловну очень много хорошего.
– Моя сестра, разумеется, как баба, сама виновата, – произнес он, зареготав жеребчиком. – Ядовита она у нас очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважал и буду уважать, потому что он добрый, очень добрый был для всех нас. Маменька с сестрою там как им угодно: это их дело.
Они у нас два башмака—пара. На обухе рожь молотят и зерна не уронят. – Азовцов зареготал снова.
Анна Михайловна созерцала этот экземпляр молча, как воды в рот набравши.
Экземпляр поговорил-поговорил и почувствовал, что пора и честь знать.
– До свиданья-с, – сказал он, наконец, видя, что ему ничего не отвечают.
– Прощайте, – отвечала Анна Михайловна и позвонила девушке.
– Очень рад, что с вами познакомился. Анна Михайловна поклонилась молча.
– К нам на контору, когда мимо случится, милости просим.
Хозяйка еще раз поклонилась.
– Нет, что же такое! – разговаривал гость, поправляя палец перчатки. – К нам часто даже довольно дамы заходят, чаю выкушать или так отдохнуть. – Пожалуйста, будьте столько добры!
– Хорошо-с, – отвечала Анна Михайловна. – Когда-нибудь.
– Сделайте ваше такое одолжение!
– Зайду-с, зайду, – отвечала, чтоб отвязаться, Анна Михайловна.
Проводя гостя, она несколько раз прошлась по комнате, взяла письмо, еще прочла его адрес и опять положила конверт на стол. «Письмо от его жены! – думала Анна Михайловна. – Распечатать его, или нет? Лучше отослать ему. А если тут что-нибудь неприятное? Если опять какой-нибудь глупый фарс? Зачем же его огорчать? Зачем попусту тревожить?»—Анна Михайловна взялась за конверт и положила палец на сургуч, но опять задумалась. «Становиться между мужем и женой! Нет, не годится», – сказала она себе и положила письмо опять на стол. Вечер прошел, подали закуску. Анна Михайловна ела очень мало и в раздумье глядела на m-lle Alexandrine, глотавшую все с аппетитом, в котором голодный волк, хотя немножко, но все-таки, однако, уступает французской двадцатипятилетней гризетке. После ужина опять письмо завертелось в руках Анны Михайловны. Ей, как Шпекину, в одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а в другое—«распечатай, распечатай!». Она вспомнила, как Даша говорила: «Нет, мои ангельчики! Если б я когда полюбила женатого человека, так уж – слуга покорная – чьи бы то ни были, хоть бы самые законные старые права на него, все бы у меня покончилось». – «В самом деле! – подумала Анна Михайловна. – Что ж такое; если в письме нет для него ничего неприятного, я его отошлю ему; а если там одни мерзости, то… подумаю, как их сгладить, и тоже отошлю». Она зажгла свечу в комнате Долинского и распечатала конверт.
На скверной, измятой почтовой бумажке рыжими чернилами было написано следующее:
«Вы честным словом обязались высылать мне ежегодно пятьсот рублей и пожертвовали мне какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего киевского дворца. Я, по неопытности, приняла этот вексель, а теперь, когда мне понадобились деньги, я вместо денег имею только одни хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это так будет, вы знали, что мне придется выдирать каждый грош, когда уступили мне право на вашу часть. Я понимаю все ваши подлости».
Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далее:
«Возьмите себе назад эту уступку, а я хочу иметь чистые деньги. Потрудитесь мне тотчас их выслать по почте. Вы зарабатываете более двухсот рублей в месяц и половину можете отдать жене, которая всегда могла бы быть счастлива с лучшим человеком, который бы ценил ее, ежели бы вы не завязали ее век. Если вы не захотите этого сделать – я вам покажу, что вас заставят сделать. Вы можете там жить хоть не с одной модисткой, а с двадцатью разом – вы развратник были всегда и мне до вас дела нет. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельного шага, что вы теперь обязаны меня обеспечить и что я имею право это требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, так вас хорошенько проучат, как негодяя. Я не прежняя беззащитная девочка, которою вы могли вертеть, как хотели».
Анна Михайловна рассмеялась.
«Я выведу на чистую воду, – продолжала в своем письме m-me Долинская, – и покажу вам, какая разница между мною и обирающей вас метреской».
На щеках у Анны Михайловны выступили пятна негодования. Она вздохнула и продолжала читать далее:
«Я осрамлю и вас, и ее на целый свет. Вы жалуетесь, что я вас выгнала из дома, так уж все равно – жалуйтесь, а я вас выгоню еще и из Петербурга вместе с вашей шлюхой».
Письмо этим оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренне радовалась, что она его прочитала.
– Какая гадкая женщина! – сказала она сама с собою, кладя письмо в столик и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выражение, и она, выбрав себе перо по руке, писала следующее:
«Милостивая государыня!
Прилагаемые при этом письме триста рублей прошу вас получить в число пятисот, требуемых вами от вашего мужа. Остальные двести вы аккуратно получите ровно через месяц. Бумагу, открывающую вам счет с сестрою господина Долинского, потрудитесь удержать у себя. Неполучение ваших денег от его сестры, вероятно, не выражает ничего, кроме временного расстройства ее дел, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что вам следует. Мужа вашего здесь нет и его совсем нет в России. Письма вашего он не получит. Вам отвечает, вместо вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считает себя в праве и в средствах успокоить вас насчет денег, о которых вы заботитесь, и позволяет себе просить вас не прибегать ни к каким угрожающим мерам, потому что они вовсе не нужны и совершенно бесполезны».
Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его в конверт вместе с тремя радужными бумажками и спокойно легла в постель, сказав себе:
– Слава богу, что только всего горя.
Через день у ней был Журавка со своей итальянкой, и если читатель помнит их разговор у шкапика, где художник пил водчонку, то он припомнит себе также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потом только плакала; но не это письмо было причиной ее горя.
После нового года, пред наступлением которого Анна Михайловна уже нимало не сомневалась, что в Ницце дело пошло анекдотом, до чего даже домыслился и Илья Макарович, сидя за своим мольбертом в своей одиннадцатой линии, пришло опять письмо из губернии. На этот раз письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.
Юлочка настрочила в этом письме Анне Михайловне кучу дерзких намеков и в заключение сказала, что теперь ей известно, как люди могут быть бесстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволит человеку, загубившему всю ее жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встречной; сама приедет в Петербург, сама пойдет всюду без всяких протекций и докажет всем милым друзьям, что она может сделать.
Анна Михайловна, прочитав письмо, произнесла про себя: «Дура!» Потом положила его в корзинку и ничего на него не отвечала. Ей очень жаль было Долинского, но она знала, что здесь нечего делать, и давно решила, что в этом случае всего нужно выжидать от времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какие бесполезные схватки с нею. Она ей не уступала без боя того, что считала своим достоянием по человеческому праву, и не боялась боевых мук и страданий; но, дорожа своими силами, разумно терпела там, где оставалось одно из двух – терпеть и надеяться, или быть отброшенной и злобствовать, или жить только по великодушной милости победителей.
Она не видела ничего опасного в своей системе и была уверена, что она ничего не потеряла из всего того, что могла взять, а что уж потеряно, того, значит, взять было невозможно по самым естественным и, следовательно, самым сильным причинам. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душе и всем предоставляла жить по совести. Этой простой логики она держалась во всех более или менее важных обстоятельствах своей жизни и не изменила ей в отношении к Долинскому и Дорушке, разорвавшим ее скромное счастье.
– Пусть будет, что будет, – говорила сама себе Анна Михайловна, – тут уж ничего не сделаешь, – и продолжала писать им письма, полные участия, но свободные от всяких нежностей, которые могли бы их беспокоить, шевеля в их памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелым укором настоящему.
А что делали, между тем, в Ницце?
Глава вторая
Ницца
Крылатый божок, кажется, совсем поселился в трех комнатках m-me Бюжар, и другим темным и светлым божествам не было входа к обитателям скромной квартирки с итальянским окном и густыми зелеными занавесками. О поездке в Россию, разумеется, здесь уж и речи не было, да и о многом, о чем следовало бы вспомнить, здесь не вспоминали и речей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладела Долинским и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотреть в будущее.
– Боже мой, как мы любим друг друга! – восхищалась Даша, сжимая голову Долинского в своих розовых, свеженьких ручках.
Нестор Игнатьич обыкновенно застенчиво молчал при этих страстных порывах Доры, но она и в этом молчании ясно читала всю необъятность чувства, зажженного ею в душе своего любовника.
– Ты меня ужасно любишь? Ты никого так не любил, как меня? – спрашивала она снова, стараясь добиться от него желаемого слова.
– Я всею душою люблю тебя, Дора.
Даша весело вскрикивала и еще безумнее, еще жарче ласкала Долинского.
Разговоры их никто бы не записал, да они всем бы и наскучили. Все их разговоры были в этом роде, а разговоры в этом роде могут быть вполне понятны только для того существа, которое, прочитав эти строчки, может наклонить к себе любимую головку и почувствовать то, что чувствовали Даша и Долинский. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чем не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны минуло более пяти месяцев. В Ниццу опять приехало из России давно жившее там семейство Онучиных. Семейство это состояло из матери, происходящей от древнего русского княжеского рода, сына – молодого человека, очень умного и непомерно строгого, да дочери, которая под Новый год была в магазине «M-me Annette» и вызвалась передать ее поклон Даше и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына – Кириллом Сергеевичем, а дочь – Верой Сергеевной. Семейство это было немного знакомо с Долинским.
Возвратясь в Ниццу, Вера Сергеевна со скуки вспомнила об этом знакомстве и как-то послала просить Долинского побывать у них когда-нибудь запросто. Нестор Игнатьевич на другой же день пошел к Онучиным. В пять месяцев это был его первый выход в чужой дом. В эти пять месяцев он один никуда не выходил, кроме кофейни, в которой он изредка читал газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его где-нибудь или на бульваре, или тут же в кафе.
Вера Сергеевна встретила Долинского на террасе, окружавшей домик, в котором они жили. Она сидела и разрезывала только что полученную французскую иллюстрированную книжку.
– Здравствуйте, m-r Долинский! – сказала она, радушно протягивая ему свою длинную белую руку. – Берите стул и садитесь. Maman еще не вышла, а брата нет дома – поскучайте со мною.
Долинский принес стул к столу и сел.
– Как поживаете? – спросила его Вера Сергеевна.
– Благодарю вас: день за день, все по-старому.
– Рвешься из России в эти чужие края, – резонировала девушка, – а приедешь сюда – и здесь опять такая же скука.
– Да, тут, в Ницце, кажется, не очень веселятся.
– А вы никуда не выезжали?
– Нет, я не выезжал.
– Что ж, вы… много работаете?
– Так… как немцы говорят: «etwas».[42]
– Sehr wenig,[43] значит.
– Очень мало.
– Но, конечно, будете так любезны, что прочтете нам то, что написали.
– Полноте, Вера Сергеевна! Что вам за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хороших вещей, которые вы можете прочесть и с удовольствием, и с пользою.
– Унижение паче гордости, – шутливо заметила Вера Сергеевна и, оставив этот разговор, тотчас же спросила: —А что делается с вашей очаровательной больной?
– Ей лучше, – отвечал Долинский.
– Я видела ее сестру.
– А-а! Где же это?
Вера Сергеевна рассказала свое свидание с Анной Михайловной, как будто совсем не смотря на Долинского. но, впрочем, на лице его и не видно было никакой особенно замечательной перемены.
– И больше ничего она не говорила?
– Нет. Она сказала, что вы часто переписываетесь. Тут Нестор Игнатьевич слегка покраснел и отвечал:
– Да, это правда.
– Что вы не курите, monsieur Долинский, хотите папироску?
– Нет, благодарю вас, я не курю.
– Вы, кажется, курили.
– Да, курил, но теперь не курю.
– Что же это за воздержание?
– Так, что-то надоело. Хочу воспитывать в себе волю, Вера Сергеевна, – шутил Долинский.
– А, это очень полезно.
– Только боюсь, не поздненько ли это несколько?
– Ну, mieux tard[44]… – Que jamais[45] – замечание во всех других случаях совершенно справедливое, – подсказал Долинский.
– Не собираетесь в Россию? – спросила Вера Сергеевна после короткой паузы.
– Нет еще.
– А там новостей, новостей!
– Будьте милостивы, расскажите.
М-llе Онучина рассказала несколько русских новостей, которые только для нее и были новостями и которые Долинский давно знал из иностранных газет. Старая Онучина все не выходила. Долинский посидел около часу, простился, обещал заходить и ушел с полной решимостью не исполнять своего обещания.
– Что ты там сидел так долго? – спросила его Даша, встречая на крыльце, с лицом в одно и то же время и веселым, и несколько тревожным.
– Всего час один только, Дора, – отвечал покорно Долинский.
– Час! Как это странно… – нетерпеливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говорит не дело.
– Нельзя же было, Дора.
– Ну, да… очень может быть. Ну, что ж тебе рассказали?
– Ничего. Просто поклон привезли.
– От Анны?
– Да.
Оба долго молчали. Даша сидела, сложа руки, Долинский с особенным тщанием выбивал щелчками пыль, насевшую на его белой фуражке.
– Что ж еще рассказывали тебе? – спросила, поправляясь на диване, Даша.
– Ничего, Дора.
– Как это глупо!
– Что не рассказывали-то?
– Нет, что ты скрытничаешь.
– О новостях говорила m-lle Vera.
– О каких?
– Ну, все старое. Я тебе все давно говорил.
– Чего ж ты таким сентябрем смотришь?
– Это тебе кажется! Тебе просто посердиться хочется.
– Первый туман, – сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.
– Какой туман?
– На лбу у тебя.
– Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!
– Не будь, сделай милость, ничтожным человеком. Наш мост разорен! Наши корабли сожжены! Назад идти нельзя. Будь же человеком, уж если не с волею, так хоть с разумом.
– Да чего ты хочешь, Даша?
Даша вместо ответа посмотрела на него искоса очень пристально и с легкой презрительной гримаской.
– Я ж люблю тебя! – успокоивал ее Долинский.
– И боишься?
– Чего?
– Прошлого.
– Бог знает, что тебе сегодня кажется.
– То, что есть на самом деле, мой милый.
– Напрасно; я только думаю, что честнее было бы с нашей стороны обо всем написать…
Даша задумалась и потом, вздохнув, сказала:
– Я сама знаю, что нужно делать. Вечером, по обыкновению, они сидели на холмике и в первый раз порознь думали.
– Ты ничего не работаешь? – спросила Даша.
– Ничего, Дора.
– Я тоже ничего.
– Что ж тебе работать?
– А деньги у нас есть еще?
– Не беспокойся, есть.
– Работай что-нибудь, а то мне стыдно, что я мешаю тебе работать.
– Чем же ты-то мешаешь?
– Да вот тем, что все ты возле меня вертишься.
– Где ж мне еще быть, Дора?
– И это, конечно, правда, – сказала с задумчивой улыбкой Даша и, не спеша пригнув к себе голову Долинского, поцеловала его и вздохнула.
Тихо они встали и пошли домой.
– Какой ты покорный! – говорила Даша, усевшись отдохнуть на диване и пристально глядя на Долинского. – Смешно даже смотреть на тебя.
– Даже и смешно?
– Да как же! Не курит, не ходит никуда, в глаза мне смотрит, как падишаху какому-нибудь.
– Это все тебе так кажется.
– Зачем ты перестал курить?
– Наскучило.
– Врешь!
– Право, наскучило.
– Право, врешь. Ну, говори правду. Чтобы дыму не было – да?
Долинский улыбнулся и качнул в знак согласия головой.
– Чем ты меня любишь?
– Как чем?
– Ведь у тебя сердце все размененное, а любить можно раз в жизни, – сказала, смеясь, Даша.
– Ну, почему ж я это знаю.
– А что, если б я умерла? Долинский даже побледнел.
– Полно, полно, не пугайся, – отвечала Даша, протягивая ему свою ручку. – Не сердись – я ведь пошутила.
– Какие же шутки у тебя!
– Вот странный человек! Я думаю, я и сама не имею особенного влечения умирать. Я боюсь тебя оставить. Ты с ума сойдешь, если б я умерла!
– Боже спаси.
– Буду жить, буду жить, не бойся.
Утром Нестор Игнатьевич покойно спал в ногах на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, села, долго внимательно смотрела на него, потом подняла волосы с его лица, тихо поцеловала его в лоб и, снова опустившись на подушки, проговорила:
– Боже мой! Боже мой! Что с ним будет? Что мне с ним сделать?
Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, как только оставалась одна. Но При Долинском она, по-прежнему, была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нежнее и добрее.
– Напишу я, Даша, Анне, – говорил ей Долинский.
– Что ж ты ей напишешь?
– Что я тебя больше всего на свете люблю.
– Она это и так знает! – улыбаясь, ответила Даша.
– Почему ты думаешь?
– Я это знаю.
– Все же надо написать что-нибудь.
– Нечего писать что-нибудь.
– Нет, по-моему, все-таки лучше писать ничего, чем ничего не писать.
– Подожди. Я напишу сама, – отвечала после минутной паузы Дора. А все не писала.