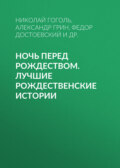Николай Лесков
Обойдённые
Глава одинадцатая
Звездочка счастья
Анна Михайловна, встретив Дору, упросила ее тотчас же уехать с маскарада.
– Я совсем нездорова – голова страшно разболелась, – говорила она сестре, скрывая от нее причину своего настоящего расстройства.
– Позовем же Долинского, – отвечала Дора.
– Нет, бог с ним – пусть себе повеселится.
Сестры приехали домой, слегка закусили и разошлись по своим комнатам.
Долинский позвонил с черного входа часа через два или даже несколько более. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.
Спички оказались вовсе ненужными. На столе в столовой горела свеча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, под которой лежал ломоть хлеба и кусок жареной индейки.
Нестор Игнатьевич взглянул на этот ужин и, дунув на свечку, тихонько прошел в свою комнату.
Минут через пять кто-то очень тихо постучался в его двери.
Долинский, азартно шагавший взад и вперед, остановился.
– Можно войти? – тихо произнес за дверью голос Анны Михайловны.
– Сделайте милость, – отвечал Долинский, смущаясь и оглянув порядок своей комнаты.
– Отчего вы не закусили? – спросила, входя, тоже несколько смущенная Анна Михайловна.
– Сыт – благодарю вас за внимание. Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закуске, но не знала, с чего начать.
– Садитесь, пожалуйста, – вы устали, – отнесся к ней Долинский, подвигая кресло.
– Что это было за явление такое? – спросила она, опускаясь в кресло и стараясь спокойно улыбнуться.
– Боже мой! Я просто теряю голову, – отвечал Долинский. – Я был причиною, что вас так тяжело оскорбила эта дрянная женщина.
– Нет… что до меня касается, то… вы, пожалуйста, не думайте об этом, Нестор Игнатьич. Это – совершенный вздор.
– Я дал бы дорого – о, я дорого бы дал, чтобы этого вздора не случилось.
– Эта маска была ваша жена?
– Почему вы это подумали?
– Так как-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствие, и я не хотела ни за что ехать – это все Даша упрямая виновата.
– Пожалуйста, забудьте этот возмутительный случай, – упрашивал Долинский, протягивая Анне Михайловне свою руку. – Иначе это убьет меня; я… не знаю, право… я уйду бог знает куда: я просто хотел уехать, хоть в Москву, что ли.
– Очень мило, – прошептала, качая с упреком головой, Анна Михайловна. – Вы лучше скажите мне, не было ли с вами чего дурного?
– Ничего. Она хочет с меня денег, и я ей обещал.
– Какая странная женщина!
– Бог с ней, Анна Михайловна. Мне только стыдно… больно… кажется, сквозь землю бы пошел за то, что вынесли вы сегодня. Вы не поверите, как мне это больно…
– Верю, верю, только успокойтесь и забудьте этот нехороший вечер, – отвечала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обе руки. – Верьте и вы, что из всего, что сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствие.
– Боже мой! Да что же у меня остается в жизни, кроме вашего спокойствия.
Анна Михайловна взглянула на Долинского и молча встала.
– Позвольте на одно слово, – попросил ее Долинский.
Анна Михайловна остановилась.
– Вы не сердитесь? – спросил Нестор Игнатьевич.
– Я уверена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня рассердило, – отвечала Анна Михайловна.
– Я вас всегда очень уважал, Анна Михайловна, а сегодня, когда мне показалось, что я более не буду вас видеть, не буду слышать вашего голоса, я убедился, я понял, что я страстно, глубоко вас люблю, и я решился… уехать.
– Зачем? – краснея и взглянув на дверь, отвечала Анна Михайловна. Долинский молчал.
– Вам никто не мешает… и…
– И что?
– Вы никогда не будете иметь права подумать, что вас любят меньше, – чуть слышно уронила Анна Михайловна.
Долинский сжал в своих руках ее руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустив глаза, смотрела в землю.
В доме было до жуткости тихо, и сердце билось, точно под самым ухом. И он, и она были в крайнем замешательстве, из которого Анна Михайловна вышла, впрочем, первая.
– Пустите, – прошептала она, легонько высвобождая свою руку из рук Долинского.
Тот было тихо приподнял ее руку к своим устам, но взглянул в лицо Анне Михайловне и робко остановился.
Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцеловала и быстро отодвинулась назад. Приложив палец к губам, она стояла в волнении у притолка.
– Ах! Не надо, не надо, Бога ради не надо! – заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинский сделал к ней один шаг, и, переведя дух, как тень, неслышно скользнула за его двери.
Прошел круглый год; Долинский продолжал любить Анну Михайловну так точно, как любил ее до маскарадного случая, и никогда не сомневался, что Анна Михайловна любит его не меньше. Ни о чем происшедшем не было и помину.
Единственной разницей в их теперешних отношениях от прежнего было то, что они знали из уст Друг друга о взаимной любви, нежно лелеяли свое чувство, «бледнели и гасли», ставя в этом свое блаженство.
Глава двенадцатая
Симпатические попугаи
В течение целого этого года не произошло почти ничего особенно замечательного, только Дорушкины симпатические попугаи, Оля и Маша, к концу мясоеда выкинули преуморительную штуку, еще более упрочившую за ними название симпатических попугаев. В один прекрасный день они сообщили Доре, что они выходят замуж.
– Обе вместе? – спросила, удивясь, Дора.
– Да; так вышло, Дарья Михайловна, – отвечали девушки.
– По крайней мере, не за одного хоть?
– Нет-с, как можно?
– То-то.
Они выходили за двух родных братьев, наборщиков из бывшей по соседству типографии.
Затеялась свадьба, в устройстве которой Даша принимала самое жаркое участие, и, наконец, в один вечер перед масленицей, симпатических попугаев обвенчали. Свадьба справлялась в двух комнатах, нанятых в том же доме, где помещался магазин Анны Михайловны. Анна Михайловна была посаженою матерью девушек; Нестор Игнатьевич посаженым отцом, Дорушка и Анна Анисимовна – дружками у Оли и Маши. Илья Макарович был на эту пору болен и не мог принять в торжестве никакого личного участия, но прислал девушкам по паре необыкновенно изящно разрисованных венчальных свеч, белого петуха с красным гребнем и белую курочку.
Магазин в этот день закрыли ранее обыкновенного, и все столпились в нем около Даши, под надзором которой перед большими трюмо происходило одеванье невест.
Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всем, начиная с башмака невест и до каждого бантика в их головных уборах. Наряды были подарены невестам Анной Михайловной и частью Дорой, из ее собственного заработка. Она также сделала на свой счет два самых скромных, совершенно одинаковых белых платья для себя, и для своего друга—Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обе были одеты одинаково, как две родные сестры.
– Что это за прелестное создание наша Дора! – заговорила Анна Михайловна, взойдя в комнату Долинского, когда был окончен убор.
– Да, что уж о ней, Анна Михайловна, и говорить! – отвечал Долинский. – Счастливый будет человек, кого она полюбит.
Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:
– Вот и правда.
– Господа! Симпатические попугаи! – позвала, спешно приотворив дверь и выставив свою головку, Дора. – Чего ж вы сюда забились? – Пожалуйте благословлять моих попугаев.
Кончилось благословение и венчание, и начался пир. Анна Михайловна пробыла с час и стала прощаться; Долинский последовал ее примеру. Их удерживали, но они не остались, боясь стеснять своим присутствием гостей жениховых, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была хозяйка, все-таки Долинский– барин.
Дорушка была совсем иное дело. Она умела всегда держать себя со всеми как-то особенно просто, и невесты были бы очень огорчены, если бы она оставила их торжественный пир, ранее чем ему положено было окончиться по порядку.
В комнатах была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этим, и под звуки плохонького квартета танцевала с наборщиками две кадрили.
В квартире Анны Михайловны не оставалось ни души; даже девочки были отпущены веселиться на свадьбе. Двери с обоих подъездов были заперты, и Анна Михайловна, с работою в руках, сидела на мягком диване в комнате Долинского.
Везде было так тихо, что через три комнаты было слышно, как кто-нибудь шмыгал резиновыми калошами по парадной лестнице. Красивый и очень сторожкий кинг-чарльз Анны Михайловны Риголетка, непривыкшая к такой ранней тишине, беспрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.
– Успокойся, успокойся, Риголеточка, – уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.
– Что это за жизнь без Доры-то была бы какая скучная, – сказала после долгой паузы Анна Михайловна, относясь к настоящему положению.
– Да, в самом деле, как без нее тихо.
– Я там было села у себя, так даже как будто страшно, – .молвила Анна Михайловна и после непродолжительного молчания добавила: – Ужасно дурная вещь одиночество!
– И не говорите. Я так от него настрадался, что до сих пор, кажется, еще никак не отдышусь.
Анна Михайловна снова помолчала и с едва заметной улыбкой сказала:
– А уж, кажется, пора бы.
– Впрочем, человек никогда не бывает совершение счастлив, – проговорила она, вздохнув, через несколько времени.
– Сердце будущим живет.
– А вот это-то и нехорошо. Ведь вот я же счастлива. Долинский промолчал. Он стоял у печки и грелся.
– А вы, Нестор Игнатьич? – спросила она, улыбнувшись, и положила на колена свою работу.
– Я очень счастлив и доволен.
– Чем?
– Судьбой, и чем хотите, – отвечал весело Долинский.
– А я, знаете, чем и кем более всего довольна? – Анна Михайловна несколько лукаво посмотрела искоса на молчавшего Долинского и договорила, – вами.
Долинский шутливо поклонился.
– В самом деле, Нестор Игнатьич, – продолжала. краснея и волнуясь, Анна Михайловна, – вы мне доказали истинно и не словами, что вы меня, действительно, любите.
Долинский также шутливо поклонился еще ниже.
– Я думала, что так в наше время уж никто не умеет любить, – произнесла она, мешаясь, как переконфуженный ребенок.
Долинский подошел к Анне Михайловне, взял и поцеловал ее руку.
Анна Михайловна безотчетно задержала его руку в своей.
– Вы – хороший человек, – прошептала она и подняла к его плечу свою свободную руку.
В это же мгновение Риголетка насторожила уши и со звонким лаем кинулась к черному входу. Послышался сильный и нетерпеливый стук.
– Посмотрите, пожалуйста, кто это? – произнесла Анна Михайловна, вздрогнув и скоро выбрасывая из своей руки руку Долинского.
Долинский пошел в кухню и там тотчас же послышался голос Даши:
– Чего это вы до сих пор не отпираете! Десять часов стучусь и никак не могу достучаться, – взыскивала она с Долинского.
– Не слышно было.
– Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услыхали, – отвечала она, пробегая.
– Сестра! – позвала она.
– Ну, – откликнулась Анна Михайловна из комнаты Долинского.
Дорушка вбежала на этот голос и, остановясь, спросила:
– Что это ты такая?
– Какая? – мешаясь и еще более краснея, проговорила Анна Михайловна.
– Странная какая-то, – проронила скороговоркой Дора и сейчас же добавила: – Дай мне десять рублей, у них недостает чего-то.
Анна Михайловна пошла в свою комнату и достала Даше десять рублей.
– Не бегай ты так, Дора, бога ради, в одном платье по лестницам, – попросила она Дорушку, но та ей не ответила ни слова.
Анна Михайловна, проводив сестру до самого порога, торопливо прошла прямо в свою комнату и заперла за собою дверь.
Глава тринадцатая
Маленькие неприятности начинают несколько мешать большому удовольствию
После сочетания симпатических попугаев, почти целый дом у Анны Михайловны переболел. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день после этой свадьбы закашляла и захрипела, а на третий слегла. Стали Дорушку лечить, а она стала разнемогаться и, наконец, заболела самым серьезным образом. Долинский и Анна Михайловна не отходили от ее постели. Болезнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошим. В доме это все чувствовали и, кажется, только боялись произнести слово чахотка; но когда кто-нибудь произносил это слово случайно, все оглядывались на комнату Даши и умолкали. Так прошло около месяца. Наконец, стало Даше чуть-чуть будто полегче – Анна Михайловна простудилась и захворала. Болезнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болезни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчас же, как Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла в постель и еще посерьезнее прежнего.
– Ну, уж теперь, кажется, будет кранкен, – сказала она сама.
Характер Доры мало изменялся и в болезни, но все-таки она жаловалась, говоря:
– Не знаете вы, господа, сколько нужно силы над собой иметь, чтобы никому не надоедать и не злиться.
Иногда, впрочем, и Дорушка не совсем владела собою и у нее можно было замечать движения беспокойные, которых бы она, вероятно, не допустила в здоровом состоянии. Это не были ни дерзости, ни придирки, а так… больная фантазия. Во время болезни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногах, она, например, один раз ужасно рассердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила в слабо освещенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавший на комоде зонтик и кинулась за собачкой. Риголетка из комнаты Анны Михайловны бросилась в столовую, где Долинский пил чай, и спряталась у него под стулом. Даша в азарте достала ее из-под стула и несколько раз больно ударила ее зонтиком.
– Дорушка! Дарья Михайловна! – останавливал ее Долинский.
– Даша! Что это с тобой? – послышался из спальни голос Анны Михайловны.
Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись в спальне Анны Михайловны, сама спокойно села к самовару.
– Ну, за что вы били бедную собачку? – обрезонивал ее тихо и кротко Долинский.
– Так, для собственного удовольствия… За то, что она любит меня меньше, чем вас, – отвечала запальчиво Дора.
– Достойная причина!
– Пусть не лает на меня, когда я вхожу в сестрину комнату.
– Темно было, она вас не узнала.
– А зачем она вас узнает и не лает? – возразила Даша, с раздувающимися ноздерками.
– О, ну, бог с вами! Что вам ни скажешь, все невпопад, за все вы готовы сердиться, – отвечал, покраснев, Долинский.
– Потому что вы вздор все говорите.
– Ну я замолчу.
– И гораздо умнее сделаете.
– Даже и уйду, если хотите, – добавил, беззвучно смеясь, Долинский.
– Отправляйтесь, – серьезно проговорила Даша. – Отправляйтесь, отправляйтесь, – добавила она, сводя его за руку со стула.
Нестор Игнатьевич встал и тихонько пошел в комнату Анны Михайловны. Чуть только он переступил порог этой комнаты, из-под кровати раздалось сердитое рычание напуганной Риголетки.
– Ага! Исправилась? – отнесся Долинский к собачке. – Ну, Риголеточка, утешь, утешь Дарью Михайловну еще!
Риголетка снова сердито залаяла.
– Ммм! Дурак, настоящий дурак, – произнесла, смотря на Долинского, Дора и, соблазненная его искренним смехом, сама тихонько над собой рассмеялась.
Так время подходило к весне; Дорушка все то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинский и Анна Михайловна по-прежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь от всякого чужого глаза, но, однако, тем не менее никто не верил этому пуризму, и в мастерской, при разговорах об Анне Михайловне и Долинском, собственные имена их не употреблялись, а говорилось просто: сама и ейный.
Глава четырнадцатая
Капризы
Наконец на дворе запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всяким днем становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладан. Доктор, который ее пользовал, отказался брать деньги за визиты.
– Вы мне лучше платите в месяц, – сказал он, – я буду заезжать к больной и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сделать не могу.
– У нее чахотка? – спросил Долинский.
– Несомненная.
– Долго она может жить? Доктор пожал плечами и отвечал:
– Болезнь в сильном развитии.
С четвертой недели поста Даша вовсе не вставала с постели. В доме все приняло еще более грустный характер. Ходили на цыпочках, говорили шепотом.
– Господи! Вы меня уморите прежде, чем смерть придет за мною, – говорила больная. – Все шушукают, да скользят без следа, точно тени могильные. Да поживите вы еще со мною! Дайте мне послушать человеческого голоса! Дайте хоть поглядеть на живых людей!
Ухода и заботливости о Дорушкином спокойствии было столько, что они ей даже надоедали. Проснувшись как-то раз ночью, еще с начала болезни, она обвела глазами комнату и, к удивлению своему, заметила при лампаде, кроме дремлющей на диване сестры, крепко спящего на плетеном стуле Долинского.
– Кто это, Аня? – спросила шепотом Дорушка, указывая на Долинского.
– Это Нестор Игнатьич, – отвечала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Доре ложку лекарства.
Дорушка выпила микстуру и, сделав гримаску, спросила, глядя на Долинского:
– Зачем эта мумия тут торчит?
– Он все сидел… и как удивительно он спит!
– Еще упадет и перепугает.
– Бедняжка! Три ночи он совсем не ложился.
– Спасибо ему, – отвечала тихо Дора.
– Да, преуморительный; сегодня встал, чтобы дать тебе лекарства, налил и сам всю целую ложку со сна и выпил.
Анна Михайловна беззвучно рассмеялась.
– Мирское челобитье в лубочке связанное, – проговорила, глядя на Долинского, Дора.
– Голубиное сердце, – добавила Анна Михайловна. В другой раз Даше все казалось, что о ней никто не хочет позаботиться, что ее все бросили.
Анна Михайловна не отходила от сестры ни на минуту. В магазине всем распоряжалась m-lle Alexandrine, и там все шло капром да в кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого внимания. Она выходила из комнаты сестры только в сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочем, они всегда сидели вместе. Анна Михайловна работала в ногах у сестры, а Нестор Игнатьевич читал вслух какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрела на них, иногда слушая, иногда далеко летая от того, о чем рассказывал автор.
Настал канун Вербного воскресенья. В этот вечер в магазине никого не было. Мастерицы разошлись, девочки спали на своих постельках. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновению, заготовляла на живую нитку разные работы. Она очень спешила, потому что заказов к празднику было множество. Нестор Игнатьевич сидел за тем же столиком возле Анны Михайловны и правил какие-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологом не было слышно даже ее тихого дыхания. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьем стального пера да щелканьем иглы, прокалывавшей крепкую шелковую материю, больная начала что-то нашептывать. Нестор Игнатьевич и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнее и внятнее. Наконец, она произнесла совершенно внятно:
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.
Дорушка тяжело вздохнула и сказала:
– Господи! Как глупо так умереть.
– Она бредит? – спросил шепотом Долинский.
– Должно быть, – шепотом же отвечала ему Анна Михайловна.
– Что вы там все шепчетесь? – тихо проговорила больная.
– Что ты, Даша? – спросила ее Анна Михайловна, как будто не расслышав ее вопроса.
– Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или как над покойником.
– Бог знает что тебе все приходит в голову! Нам просто показалось, что ты бредишь; мы не хотели тебя разбудить.
– Нет, я не брежу; я не спала. Откройте мне занавес, – сказала Даша, ударив рукой по пологу. Долинский встал и откинул половину полога.
– Все, все отбросьте, вот так! – сказала больная. – Ну, говорите теперь, – добавила она, оправив на себе кофту.
– О чем прикажете говорить, Дарья Михайловна? – спросил Нестор Игнатьевич.
– Не умеете говорить! Ну, прочитайте мне что-нибудь Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробик ребенку, ужин отцу» прочтите.
Долинский знал, что Даша любила в Некрасове, и знал, что чтение этих любимых вещей очень сильно ее волновало и вредило ее здоровью.
– Некрасова-то нет дома, – отвечал он.
– Куда же это он уехал?
– Я его дал одному знакомому.
– Все врет! Как вы все без меня изоврались! – говорила Даша, улыбаясь через силу, – а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. Ну, вот читайте мне Лермонтова—я его никому не отдала, – и Даша, достав из-под подушки роскошно переплетенное издание стихотворений Лермонтова, подала его Долинскому.
– «Мцыри», – сказала Даша. Нестор Игнатьевич прочел «Мцыри».
– «Боярин Орша», – сказала больная снова, когда Долинский дочитал «Мцыри».
Он прочел «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтение. Так прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для детей» и, наконец, несколько глав из «Демона».
– Ну, довольно, – сказала Даша. – Хорошенького понемножку. Дайте-ка мне мою книгу.
Долинский подал ей книжку; она вложила ее в футляр и сунула под подушку. Долго-долго смотрела она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглые губки и вдруг совершенно спокойным голосом сказала:
– Поцелуйтесь, пожалуйста.
Анна Михайловна вспыхнула и с упреком сказала:
– Что ты это говоришь, Даша?
– Что ж я сказала? Я сказала: поцелуйтесь, пожалуйста.
Долинскому и Анне Михайловне было до крайности неловко, и они оба не находили слов.
– Что ты, с ума сошла, Дора! – могла только проронить Анна Михайловна.
– Какие вы смешные! – проговорила, улыбаясь, больная. – Ведь вы же любите друг друга!
– Что вы это говорите? Что вы говорите! – повторял с упреком переконфуженный Долинский, глядя на еще более сконфуженную Анну Михайловну.
Больная отвернулась к стене, не удостоив этих упреков ни малейшего внимания и, помолчав с минуту, опять сказала:
– Да поцелуйтесь, что ли! Мне так хочется видеть, как вы любите друг друга.
– Даша! Тебе верно хотелось видеть, как я плачу, так ты как нельзя лучше этого достигла, – сказала вполголоса Анна Михайловна – и, сбросив с колен работу, быстро вышла из комнаты. Слезы текли у нее по обеим щекам.
Долинский посмотрел ей вслед и остался молча на своем месте.
– Вот чудаки! – тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собой.
– Смешно! – воскликнула она через минуту с тою же досадой и с явным желанием вызвать на разговор Долинского.
– Да, кошке игрушки, а мышке слезки, – ответил, не поднимая глаз от бумаги, Долинский. Даша вспыхнула.
– Э! Уж хоть вы, по крайней мере, перестаньте, пожалуйста, комонничать! – крикнула она запальчиво на Долинского.
– Что такое значит комонничатъ? Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю, – отвечал сухо Долинский.
– Русское слово.
– Никогда не слыхал в моей жизни.
– Мало ли чего вы еще не слыхали в вашей жизни! В это время в комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно села за свою работу. Глаза у нее были заплаканы.
Дора посмотрела на сестру, слегка поморщила свой лоб и попросила ее переложить себе подушки.
– Ну, а теперь уйдите от меня, – сказала она не оправившимся от смущения голосом сестре и Долинскому.
– Я останусь с тобою, – отвечала ей Анна Михайловна.
– Нет, нет! Идите оба: «мне вид ваш ненавистен», – тихо улыбаясь, шутила Дора. – Нет, в самом деле, мне хочется быть одной… спать хочется. Идите себе с богом.