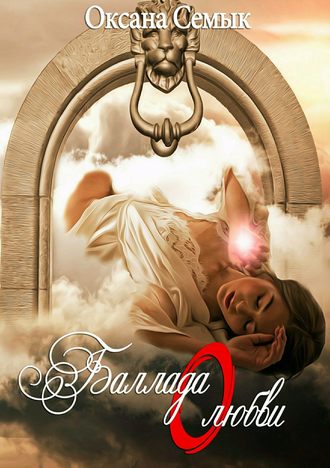
Оксана Семык
Баллада о любви. Стихи и переводы
Урод
Глядя в зеркало, словно в окно, за которым чужой:
«Это кто?» – осторожно касаюсь рукою лица:
Вдруг обижу того, чье оно – ведь оно не мое.
Как заставить себя наконец-то привыкнуть к нему?
Мне мучительна пытка отождествленья с собой —
Словно пялишься в шкуру, слинявшую с ребер чужих.
Закрываю глаза и тогда лишь я вижу себя.
Открываю – и нет меня. Там я, внутри, глубоко.
Вот еще один кинул с презреньем: «Смотрите, урод!»
И безжалостный смех грязным комом мне в спину летит.
Словно в клетке о прутья, в груди бьется в ребра душа,
С оболочкою этой расстаться мечтая скорей.
Старик и скрипка
Глядя рассеянно в зал,
Старый усталый скрипач,
Вскинув смычок, заиграл
Вальс, так похожий на плач.
Плакала скрипка
О прошлых ошибках,
Прощаньях, утратах —
На сердце заплатах,
О том, что со всеми
Безжалостно время,
И плакал со скрипкой старик.
И, позабыв про толпу,
В пальцах смычок сжав сильней,
Жаловался на судьбу
Старенькой скрипке своей.
С грустной улыбкой
Шептал своей скрипке
Нехитрую повесть
Про чистую совесть,
Что пусто в кармане —
Ведь жил без обмана
И верить он людям привык.
Занавес мягко упал
Плотными складками вниз,
А музыкант всё играл
В бархате пыльном кулис…
Собачья смерть
Уж не щенок, но и не взрослый,
И ребра тощие в дугу.
Собачий небольшой подросток
Лежит, свернувшись, на снегу.
Я подошел немного ближе,
Хотел окликнуть, приласкать,
Но, странно тих и неподвижен,
Он стыло продолжал лежать.
Снежинки на носу не тают.
Увы! Он слишком слабым был.
А ночь морозная такая.
И пес ее не пережил.
Лежит колечком, будто спящий.
Словно забылся средь кустов
Впервые сном он настоящим,
А не когда вскочить готов…
…Он был рожден в отбросов куче,
Но с главной мыслью в голове,
Что человек – на свете лучший,
Хоть ног имеет только две.
И вот, едва окреп немного,
Отправился в щенячий путь
И тыкался прохожим в ноги,
Пытаясь ласково лизнуть.
В ответ – пинки. Быть может, случай?
Но нет. Пинки. Пинки опять.
И мысль, что «человек – он лучший»,
Стал постепенно забывать.
И стал пес недоверчив, собран:
Вокруг ведь зло наверняка…
И лишь во сне на его ребра
Ложилась ласково рука.
И в эту ночь. Опять приснилась.
И провела по голове.
Он сжался, принимая милость.
Еще погладь! О, человек!
Подставил спину он с опаской
И замер, млея, чуть дыша.
И дрогнула от этой ласки
Собачья битая душа.
И произнес вот этот, в белом:
«Отсюда взять тебя могу» —.
«С тобой? Пойду!»… Лишь только тело
Лежать осталось на снегу…
…Мир от людей, как прежде, тесен.
Но мимо все спешат опять.
Живой им был неинтересен.
А мертвый? Вовсе наплевать.
И он ушел, назад не глядя,
Ушел в мир лучший, неземной,
Где, наконец, его погладят
Впервые в жизни… Пусть в иной…
Мой мозг – как старая сума…
Меняю платье и дома,
Друзей, врагов и в жизни роли.
Мой мозг – как старая сума,
Лежащая на антресоли.
Хранишь такой баул порой,
Что клал в него, не помнишь точно:
Всё, что мешалось под рукой,
И всё, в чем не нуждался срочно.
Однажды, встав на табурет,
Достанешь сумку и откроешь.
Ища какой-нибудь предмет,
До дна ее ты перероешь.
И вот внизу, под барахлом,
Лежащем в глупом беспорядке,
Вдруг – фото. Желтым уголком.
Застряло в порванной подкладке.
И ты забудешь, что искал,
И руки упадут безвольно:
Как ты когда-то обожал
Ту женщину! И станет больно.
Ты вспомнишь резкие слова,
Обиды, ссоры, подозренья —
То, как делили вы на два
Двух ваших душ произведенье.
Но ведь любовь была. И пыл.
И свет тех дней с тобой остался —
Про них ты тоже не забыл,
Как оказалось, хоть пытался.
В печали час почти пройдет,
И даже, может, ты заплачешь.
А после старый снимок тот
В баул подальше снова спрячешь.
Пусть продолжает там лежать
Напоминаньем сиротливым
О том, что ты вполне мог стать
По-настоящему счастливым…
…Вот так же в поисках себя
Займусь я вдруг самокопаньем,
В багаж свой старый углубясь,
Накопленный за жизнь сознаньем.
Понять пытаясь свою суть,
По прошлому слегка тоскуя,
Не зная, как покой вернуть,
Все в голове переверну я.
Воспоминаний вороха
Перелопачу я. И вскрою
Всех тайных мыслей потроха:
Стесняться что перед собою?
И вот, почти достигнув дна,
В кусочке мозга самом пыльном
Увижу: старая вина
Свернулась в закутке извильном.
Под грузом всех иных забот
Давно забыта: как и нету.
Но совесть память всколыхнет,
Вскрывая снова рану эту.
И словно мне в глаза сам Бог
Заглянет, головой качая.
Ударит резко, как под вздох,
Вина тяжелая былая.
Ее, как вещь в баул, никак
Назад не спрячешь – бесполезно.
И этот, вроде бы, пустяк
Каленым станет жечь железом.
Кого обидел – нет уж тех.
Казалось бы: чего стыдиться?
Кто ж знал, что стародавний грех
Как долг, лишь продолжал копиться!
И я пойму, что кредитор —
Не тот, кому нанес я рану.
Счет не предъявлен до сих пор,
Но будет – поздно или рано.
Хоть время не воротишь вспять,
Ошибок не исправишь прежних,
Мой кредитор готов прощать
Долг даже самый безнадежный.
Мне надо лишь признать вину:
Вздохнет Бог, наш расчет отложит
И спишет мне еще одну
Ошибку. Он один всё может.
Прости! Не дай сойти с ума
От этой безысходной боли…
…Мой мозг – как старая сума,
Лежащая на антресоли.
Глава 3. Брат на брата
Мы на первый-второй рассчитались…
Мы на первый-второй рассчитались
Перед тем, как нас в бой повели.
Мы, вторые, живыми остались,
Ну а первые все полегли.
Ждут бои нас с тобой и другие,
Но не знаем, кому повезет:
Будем первые или вторые,
Когда новый наступит расчет.
И не страшно уже, и не жалко —
Изменила нас сука-война.
Спим в окопах сырых мы вповалку —
Жадно ловим мгновения сна.
Где-то там, за дождем серо-мелким,
Враг, ощерившись сотнями дул,
Замолчал, оборвав перестрелку.
Он, наверное, тоже уснул.
Замер мир в этом кратком покое.
Степь дождя пьет с небес допьяна,
Не успев пока стать полем боя —
Завтра крови напьется она.
И над станом врага, и над нами,
Муча сердце тоской, вьются сны:
Лишь о доме, о детстве, о маме
И о том, что вернулся с войны…
Иди ты…
В тот год, в тот день, в то утро шла война.
Не важно, где и с кем. Ещё одна.
Вдруг вспышка взрыва, а очнулся – плен
И сырость земляных подвальных стен.
Боль в ране, холод, жажда, страх в душе́.
Порой не ясно: жив иль мертв уже.
Но вот однажды свет проник в подвал:
"А ну, давай на выход, я сказал!"
И вывели, толкая и глумясь,
И, в спину ткнув, лицом швырнули в грязь.
Потом раздался окрик: "Твою мать!
Ну что, довоевался, сука? Встать!»
Цыплячья шея, рваный воротник.
Невольно нервно дернулся кадык.
В крови засохшей грязная рука
Зажала рану: вроде жив пока.
И свежий воздух ноздри раздразнил.
И взгляд тоскливо птицу проводил.
Проснуться б или взять бы и уйти!
Что ж, мама, не увидимся, прости…
И окрик вновь: «А ну, смотреть в глаза!
Встать на колени! Руки вверх, сказал!»
Мужик. Обычный. Надо ж. Вот ведь как.
Успел подумать: «И вот это враг?
Ну да, небритый, дерганый, смурной.
Но словно мы с ним с улицы одной».
Удар прикладом по зубам с двух рук,
И на мгновенье мир качнулся вдруг.
«Ты что, не понял? На колени, гад!»
И в лоб уперся дулом автомат.
«Черт, жить охота!» Сделав вдох большой,
На небо посмотрел над головой.
«Иди ты…», – бросил сухо мужику
И взглядом палец проводил к курку…
Выстрел
Движением пальца разрушить Вселенную разве возможно?
Мир уникальный, бескрайний, одним лишь движением неосторожным?
Вы мне поверите, если скажу, что такое случается?
Мир убивает движение пальца – того, что к курку прикасается.
Дернулся палец, нажал – разве это настоль разрушительно?
Лишь одного человека из жизни он вычеркнул пулей стремительно.
Но человек этот неповторим – пусть так хрупко и смертно его тело тленное,
Здесь, на Земле, уникально сознанье его – бесконечная бездна-Вселенная…
В ней по орбитам своим люди, словно планеты, вращаются,
Сны и надежды, как будто кометы, опять и опять возвращаются,
Как гравитация, давят на плечи дела и гнетут обстоятельства сложные,
Звездами щедро рассыпаны чувства, эмоции, мысли, слова всевозможные.
Есть в этом мире, увы, и трагедий и боли туманности,
Изредка, как астероиды, здесь попадаются странности,
Носятся микрочастицы сиюминутного «хочется»,
А остальное пространство заполнено вакуумом одиночества.
Каждый из нас – целый космос: прекрасный, загадочный, сложный…
…Движением пальца разрушить Вселенную разве возможно?
Если я однажды стану Богом
Господь! Ты этот мир создал неверно:
Несовершенств он полон и ошибок,
В нем правит зло, в нем много лжи и скверны,
А счастья миг так краток и так зыбок.
Но если я однажды стану Богом,
Я сам создам свой мир, как его вижу.
Не человечьим разумом убогим,
Что мнит себя всезнающим облыжно,
Но мозгом совершенным и впитавшим
Без счета мудрость всех других вселенных.
Мышлением бессмертным, вечным ставшим,
Руками, не подверженными тлену.
Сам испеку я во вселенской печи
Планету новую для дел своих достойных.
Ее слеплю из элементов вечных,
Кружащих в танце хаоса столь стройном.
Ни терниев, ни волчц на ней не будет —
Лишь краше становиться век от веку
Мой станет мир на радость моим людям.
Да, я дерзну и жизнь дать человеку!
И он прекрасен будет телом бренным,
А главное душой! Я точно знаю!
Не то что те, Господь, Твои творенья,
Что нынче Землю топчут, оскверняя.
Мой человек – он никогда не сможет
Отнять дыханье жизни у другого,
Не украдет, не скажет клятвы ложной,
Не возжелает он добра чужого.
Я словно повторюсь в своем Адаме,
Но лучше будет он: пытливый, дерзкий.
Деревьями с запретными плодами
Я засажу весь садик свой Эдемский.
Скажу: «Вкушай! Познай: что зло, что святость.
И созидай, и самовыражайся.
Неси другим добро, и свет, и радость,
Люби жену, плодись и размножайся».
И он вкусит. И поведет подругу
В мой мир прекрасный…
К вящей моей славе ль?..
Увы! Ведь новый Каин все же руку
Поднимет в злобе – и погибнет Авель.
Земля моя, что создавал с любовью,
Поил ее росою и дождями,
От многих войн польется щедро кровью,
Покрывшись незарытыми костями.
И я увижу, сидя в высях горних,
Как сыновья Адама выбирают
Смерть сеять, а не хлеб, не лён, а го́ре.
И вместо созиданья разрушают.
Взирать бесстрастно буду заставлять я
Себя. Ведь мой закон – свобода воли.
Бессильно глядя, как друг друга братья
Лишают жизни, подвергают боли.
Но наконец не выдержу глумлений
Над всем, что заповедал человекам —
И гневом против собственных творений
Моя вдруг резко сменится опека.
Пошлю всепожирающий огонь я
А сам запла́чу, горько сострадая
Своим твореньям, видя их агонию,
И как мой мир прекрасный погибает.
И небеса сверну я, словно свиток,
Чтоб точку в этом опыте поставить.
Но вывод сделать из своих ошибок
Сумею, хоть итоги не исправить.
Пойму: так кто в ответе, когда адом
Становится вдруг райская планета.
Мне запоздало станет ясно: надо
Не Бога, а людей винить за это.
Жатва
Здоровое тело разорвано в клочья,
И страшен зов смерти, особенно ночью.
Стоит, ухмыляясь, она в изголовье,
И тост поднимает она моей кровью.
Когда в темноте затихает больница,
Один только сон изо дня в день мне снится:
Глаза закрывая незрячие, вижу
Взрыв, плоть мою стерший в кровавую жижу.
А дальше лишь боль, океан боли дикой.
И я просыпаюсь на собственном крике —
Обрубок слепой, забинтованный кокон,
Чья с миром вся связь – запах лета из окон
И звуки дождя, и гудков перекличка.
Стереть пот с лица я тянусь по привычке.
Но нету руки. Я забыл на мгновенье:
Мне больше не ведома роскошь движенья.
Вновь боли фантомные: не избежать их…
И культей бессильно я бью по кровати.
Как хочется жить! Мне всего девятнадцать.
За чей интерес меня гнали сражаться?
Того, кто дает равнодушно приказы?
Проснувшись однажды не в духе, он сразу
Решил: быть войне. Просто так захотел он.
А я за каприз заплатил своим телом.
Ему я отдал свою дань, не отчизне…
Я сам не успел отобрать чьи-то жизни.
И этим лишь совесть свою облегчаю.
У всех кровь красна, я теперь это знаю.
На поле сраженья враги, словно братья,
Вповалку друг с другом в смертельном объятьи.
На лицах оскал – то ли боль, то ли ярость.
С них дань свою не соберет уже старость.
Не вырастить сына им, дом не построить.
Медалями вдов их вам не успокоить.
Мне тоже вручили медаль. Как в насмешку,
Глаза отводя, равнодушно и в спешке.
За что мне она? Неужели за смелость?
А мне ведь в бою вжаться в землю хотелось,
От страха кричал я и зло матерился.
Мой бой самый первый – недолго он длился.
Но жизнь мою он разделил на две части:
Вот я еще молод, здоров, глупо счастлив.
А вот я без ног, без руки и незрячий,
И мать подле койки тихонечко плачет.
Чужая земля моей кровью полита.
Судьба моя скомкана, смята, разбита.
И я не один такой – нас таких много,
Кем чья-то к всевластью мостится дорога.
Война – только средство добраться до цели.
Плевать ему, что мы войны не хотели,
Плевать, что с войны возвратимся едва ли —
Да лишь бы нули на счетах прибывали…
И дела ему до моих нет мучений,
Ведь наших судеб параллельно теченье.
И я уже списан в расход. Быстро слишком.
На место мое новый призван мальчишка.
Теперь он сжимает приклад автомата.
А мне дом последний – вот эта палата.
Но я от обиды вскипаю и злости:
Врешь! Я еще жив! Еще не на погосте!
И я с этой койки подняться сумею,
Хоть с каждым движеньем от боли бледнею.
Пусть на костылях, на протезах, не сразу,
Пускай однорукий, пусть даже безглазый
Однажды я выйду из стен этих белых
И воздух всей грудью вдохну ошалело…
Ожили мечты и надежда вернулась…
Тут вновь из угла смерть моя улыбнулась.
Приблизилась тихо, без слова, без звука,
На грудь опустила костлявую руку.
И сердце мое учащенно забилось,
Но, словно споткнувшись, вдруг остановилось…
А смерть через стены скользнула привычно —
Безносая щедрую чует добычу.
Вновь кто-то нарушил чужие границы,
Вновь где-то сраженье – туда она мчится,
Где, осатанев, строй на строй прут солдаты…
И будет ее урожай сверхбогатым,
Пока кто-то жаждет владеть целым светом,
А толпы готовы отдать жизнь за это.







