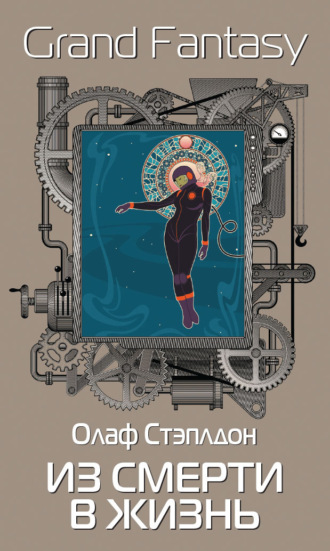
Олаф Стэплдон
Из смерти в жизнь
Атака
Настороженных ушей защитников города коснулась тень звука. Звук – или почудилось? Если звук – то гром или отзвуки далекого сражения? Первые волны далекого удара отозвались дрожью в фундаментах домов и прошли по воздушным путям улиц. Вздрогнули руины. Огромное раненое существо задрожало каждой клеткой. И вместе со звуком по всему населению города, от дежурных на крышах до толпы в убежищах, прошел вздох, скрытый каждым от каждого.
Внезапно взревели орудия города. Задребезжали стекла и посуда. Булавочные проколы звезд затмило недолговечное сияние. Десять тысяч мальчиков в небесной вышине нацелились на убийство – и наравне с ними те, что при орудиях. Ливень огромных бомб терзал сердце города; каждая, попадая в дом или улицу, взрывалась огнем; их удары пересекались, словно кольца от дождевых капель на воде пруда. И в течение получаса еще множество городских сот было растоптано подошвой гиганта. Снова лишившиеся фасадов дома выставили свои потроха напоказ, как кукольные домики. Фабрики и конторы, школы и церкви вдруг обратились в кучи мусора. И в этих грудах кирпича и бетона, балок и перекрытий лежали человеческие тела. Многие из них были неподвижны, из них выбило дыхание и жизнь, но некоторые люди еще дышали – и кричали! А по всему городу паразитами пировали пожары, тянули к небу яркие щупальца, вздымали дым выше пролетавших бомбардировщиков.
В эти минуты многие сотни маленьких личных вселенных пропали, как пропадают пузыри на сохнущей пене. Их жизненные центры были уничтожены – так исчезает освещенная комната, когда разобьют лампу. А иные из выживших, объединенные с уничтоженными симбиотической связью, остались еле живыми калеками.
Яркие усики города ощупывали небо. Бомбардировщики в небесной вышине прокладывали курс между колоннами вражеских прожекторов и расцветающих бутонов пламени. Десять тысяч исполняли предписанный им долг. Сердце города было для них мишенью, которую нужно поразить еще перед завтраком. О том, что это ткань, сплетенная из жизней и любви, большинство из них забыли в напряжении атаки. Некоторым эта мысль мешала, и ее приходилось отгонять: у немногих укол жалости был отражен сознанием своей правоты, другие немногие – душевные калеки – наслаждались жестокой агонией. Но светлые головы взирали на созданный ими ужас со всей суровостью, словно выдавливали гной из нарыва; они делали свое дело вполне осознанно.
Каждый экипаж был скреплен стальными узами: разные обязанности и разные мысли объединялись общим повиновением цели. Каждый мальчик из каждой команды дорожил самим собой, нес сквозь ужас этой ночи упрямую тему собственной жизни, и в то же время каждый был самоотверженной частью целого. Быть может, здесь и там что-то не сходилось в общей мозаике мыслей, какой-нибудь одиночка или непокорный дух подтачивал единство экипажа, заражая остальных сомнением и страхом, отравляя общее единодушие и эффективность, как больной зуб или заноза в пальце ослабляют единство глаза и мышц атлета.
Но такие диссонансы были редки. Каждый экипаж был цельным существом в пределах маленькой вселенной смерти. И вся армада воздушных судов, эскадрилья за эскадрильей накатывающая на цель, выбрасывала в сердце города смертоносную икру с точностью часового механизма, с ошеломляющей целеустремленностью атакующего. С небес нападало единое существо, живой и разумный улей, где каждая пчела, жалея себя, жертвовала собой ради общей жизни, общей цели.
Бомбардировщики тоже уязвимы. То один, то другой, пойманный усиками прожекторов, задетый выстрелами орудий или подбитый истребителем обороны, вычерчивал в темноте длинную нисходящую кривую – огненный след – или пропадал в яркой вспышке.
Мотылек все порхал по летучей тюрьме в смутном беспокойстве. Но семеро готовились к решающему моменту – к сбросу смертоносного груза. Они, захваченные важностью задачи, стали семью органами механической летучей твари. Если бы в одно сознание из семи залетела индивидуальная мысль, она была бы немедленно изгнана. Общность семерых должна быть абсолютной. Только мотылек, невольный и неразумный пассажир, оставался чем-то отдельным. Телом попав в ловушку, он был свободен от человеческого разума, от его тирании и всей его тупости.
Кормовой стрелок был счастлив. Он уже убил и ждал новой атаки. Но когда мотылек вновь коснулся его чарами далекого, но такого родного мира, сердце стрелка на миг дрогнуло. Он яростно заставил себя встряхнуться, мобилизовался.
Самолет вдруг попал в перекрестье прожекторных лучей. Близкие разрывы сотрясали его. В бушующем свете кормовой стрелок на миг увидел мотылька: трепетную белую пылинку, зависшую в темноте.
А потом вселенную кормового стрелка объяло сияние и грохот, дикая боль прокатилась по каждому его нерву. Каждую клетку тела затопил свирепый жар. Так было со всеми семью. Бумажные крылышки мотылька мгновенно преобразились в облачко разрозненных молекул. Плоть семерых мальчиков распадалась в мучениях. Семь юных сознаний, средоточия и короли семи миров, переживали последний свой опыт. А потом и они превратились в стайку блуждающих молекул, в газовые облачка.
А семь молодых душ?
Последний миг кормового стрелка был до отказа заполнен болью, яростным отвращением тела к гибели. Все, что он испытал в своем мире: булавочные точки звезд – солнц, святое товарищество экипажа, поцелуй мотылька и девятнадцать лет взросления – все это стерла раскаленная добела агония тела. Потом ушла и боль. Кормовой стрелок исчез.
Первая интерлюдия. Что значит – умирать?
Мы прощались в тоннеле. Ты на платформе, я в вагоне. В дни ракетных ударов.
Ты с улыбкой отступила назад и послала мне воздушный поцелуй. В нем светилось все, что мы пережили.
Двери сомкнулись, разделив нас. Шанс, что мы больше не встретимся, был, думал я, один на много миллионов. И все же этим утром, всего за несколько улиц от нас, погибли десятки людей. Сегодня, как в тысячи других дней, они зевали в своих постелях, одевались, завтракали, собирались на работу, а потом внезапно или медленно и мучительно переставали быть. Так это виделось со стороны.
Что значит – умирать? Никто из тех, кто пробовал, не расскажет.
Что мы – просто искорки разума, навсегда гаснущие со смертью, или птенцы бессмертных, страшащиеся покинуть гнездо? Или то и другое? Или ни то, ни другое?
Мы зарождаемся в тайне и в тайне умираем.
Давайте же, по крайней мере, не бахвалиться бессмертием, не закладывать ему душу. Если конец – это сон, что ж, для усталого сон – последнее блаженство.
И все же, быть может, умирает только дорогое нам мелкое «я» каждого. Быть может, с его уничтожением нечто живое и вечное расправляет крылья и вылетает на волю. Нам не дано знать.
Но вот что мы знаем: исчезаем мы или достигаем вечной жизни, как бы то ни было, любить – хорошо.
Глава 2. Эфемерные души
Миг смерти. – Уничтожение и выживание. – Экипаж. – Дух экипажа. – Общество убитых. – Дух убитых. – Смерть духа убитых
Миг смерти
В самый миг исчезновения кормовой стрелок пережил странный опыт, о котором так легко не расскажешь. Он уже оставил позади боль и падал в ничто. В этот последний миг он пробудился к осознанию всей прошлой жизни. Вся его прошлая вселенная чудом промелькнула перед ним в изысканной чистоте утреннего сияния, во множестве подробностей. Он заново ощутил все свои дни и ночи разом, но теперь – как цепочку разноцветных бусин, выложенную перед ним в смене света и тьмы. Каждая был изукрашена уникальным опытом той конкретной ночи или того дня. Здесь, как наяву, он видел день, когда его впервые отвели в школу; ночь неописуемого кошмара, который не выпускал его из зубов еще много дней и ночей; день, когда он, школьник, узрел божественность в однокласснице; первый день работы в банке; ночь первой операции за проливом. Видел он также, что ниточкой, связывающей воедино все его дни и ночи, было драгоценное, постоянно растущее тело, которое теперь уничтожалось. Вот оно жило и несло в себе все воспоминания, транслировало страсть и восторг, служило источником всякой жажды и всякого ее утоления. Но теперь его тело переживало смерть, а его разум – уничтожение. Странно, странно, что в одном мгновении нашлось место для толпы мыслей и желаний, для всех его девятнадцати лет!
И на одном конце длинной цепочки дней он увидел самый первый день, замкнутый в мирную темноту лона, день болезненных и новых толчков, напора, мучительных схваток, и затем – укол холодного воздуха на нежной коже, и шлепок, расправивший его легкие для первого вдоха и крика. В этом первом, глубже всех похороненном воспоминании кормовой стрелок снова испытал слепой младенческий ужас, гнев и жалость к себе и пожелал вернуться в мирное лоно. Однако, рассматривая свой первый день с чудесной точки зрения последнего мига, он больше не стремился в лоно, которое, казалось, готово было поглотить его снова – и навсегда. Нет, он желал только жизни и исполнения всего, что она так поспешно обещала. Но вот перед ним лежала сумятица его дней, ярких от надежд и их частичного исполнения, но подпорченных бесконечной скукой, отчаянием, подделкой под будущее блаженство. Он жадно слизывал сладость своих драгоценных, сочтенных и исчисленных дней и сплевывал всю их горечь. И, жалея себя, он тосковал по зрелому мужеству, которого не успел испытать.
Но сейчас, в этот дивно наполненный миг на краю уничтожения, кормовой стрелок уловил в себе странный конфликт. Он, казалось бы, всем существом протестовал против небытия, но в то же время в самой глубине его что-то равнодушно принимало уничтожение. Казалось бы, всем существом он жадно цеплялся за каждое сладкое мгновенье жизни и в то же время нетерпеливо отворачивался, отыскивая взглядом окончательное завершение. Как будто два разных существа противоположных темпераментов оценивали каждый день и минуту его жизни. Одно было знакомо ему как он сам: жадный ловец удовольствий и беглец от боли. Другое – пугающее и нечеловечески чужое – было незнакомцем и в то же время самой глубиной его существа. Оно ничего не ловило, ничего не чуралось. Эта невидимая до поры, но активная часть его существа – если можно было считать ее таковой – принимала удовольствия наравне с болью, бесстрастно судила их с точки зрения некого высшего смысла, вопрошая, несут они в себе жизнь или смерть, усиливают широту и восприимчивость личности или калечат ее. Так, давний случай, когда он больно обжег руку, оценивался двояко. Обычное «я» кормового стрелка каменело от воспоминания боли, но вторая сторона его, тоже сознавая страдания тела, смотрела на них спокойно, с неслышной насмешкой над рабским характером первой половины. Потому что этот ожог не калечил, а увеличивал, прояснял опыт. Разве не он посвятил мальчика в грозную тайну страдания? А можно ли быть мужчиной, не пройдя этого посвящения?
Но его обычное «я» встречало решение высшей мысли непониманием, издевкой и ненавистью. Он спорил с собой: «Если уж умирать, умру настоящим, какой я есть, а не каким-нибудь длиннополым падре или ученым очкариком. Боль – это просто ад. Я не вижу в ней ничего хорошего, я ее ненавижу, терпеть не могу. К черту ее!»
В свой последний миг кормовой стрелок заново пережил тысячи мелких случаев раненой гордости и публичного унижения, как моль разъедавших крепкую ткань его жизни. Его снова отвергала первая красавица квартала; он узнавал, что его новый друг, настоящий герой, живет в трущобах. Только теперь его жестоко терзало несогласие между обычным «я» и вторым, более светлым. Одно покорно уступало давнему ужасу перед общественным мнением, другое же терзалось стыдом совсем иного порядка – стыдом за мальчишество и подлость. Потому что дружба, которая, как он теперь видел, могла осветить всю его жизнь, была отравлена снобизмом. Этой первой уступкой, как и многими другими предательствами, он отравлял собственную душу и каждый раз становился чуть более близоруким, более бессердечным.
Оценивая неуклюжие ухаживания за девушкой, которой он добивался в последнее время, его пробудившийся ум видел, что их живые души так и не встретились лицом к лицу. Оба они были слепы к себе и к другому. Оба вновь и вновь ранили друг друга – не из жестокости, а от поглощенности собой и по глупости. В тот раз, когда она, горюя над растоптанной бабочкой, искала у него сочувствия, он не додумался, что у ее горя есть скрытый источник. Втайне презирая ее за ребячество, он мельком утешил ее и стал ласкать. А она, хоть и уцепилась за него, стала странно холодной. Ему надоело добиваться ответа, и он поднял на смех девчонку, хнычущую по пустякам. Тогда она почему-то вдруг неудержимо расплакалась. В свой последний миг кормовой стрелок с чудной ясностью видел то, чего не поняли тогда ни он, ни она: в гибели бабочки она словно при вспышке молнии увидела ужас, затопивший бесчисленное множество людей и целые страны. Ее терзало противоречие между жалостью к угнетенным и вспыхнувшим пониманием, что участие в бойне, даже ради спасения терзаемых народов, – ужасное святотатство; но больной мир нуждается в этом святотатстве, и прекратить его было бы еще ужаснее. Но все это происходило в такой глубине ее существа, которое она никогда не изучала. Запутавшаяся и испуганная, она бежала этих глубин, находя выход чувствам в простой жалости к бабочке. Но смутное недоумение и беспричинный ужас остались. И, обращаясь к нему в тоне несчастного ребенка, а не женщины, поверяя ему маленькую на вид печаль, скрывавшую глубокое горе, она ждала большего, чем обычные любовные ласки: она надеялась на понимание и исцеление раны, в которую сама не смела вложить персты; в сущности, она просила любви, взаимного любопытства и бережности существ, разных по натуре, но слитых в единое целое. Все это сознавало теперь пробудившееся «я» кормового стрелка, и он горько презирал себя за давнюю недалекость.
Однако его обычное «я» отвергало это презрение к себе и страшилось остроты нового зрения. «Что на меня нашло? – бранился он. – Что со мной происходит? Откуда эта книжная чушь? Подобное мне не свойственно. Я не такой и никогда таким не был. И вообще, что мне эта девица? Черт возьми, не мое дело разбираться в ее глупых мыслишках и хныкать вместе с ней над букашками!»
Да, мысли о насилии заставляли кормового стрелка с особым ужасом восставать против нового «я». Живой мальчик всегда принимал – хоть и со смутным беспокойством – необходимость насилия ради защиты добра. Его самого призвали для участия в убийствах. Ради экипажа, ради страны он участвовал в бойне, загнав мысли о ней в дальний угол сознания вместе с ужасом и стыдом. Он говорил себе: «Работа грязная, но ее надо делать. Если нас проклянут за нее, то и ладно, но сделать работу нужно».
А между тем его новое «я» жестоко и горько раскаивалось. Его оживившееся воображение в мрачных подробностях рисовало агонию вражеского летчика, расстрелянного из пулемета или сбитого снарядом, и граждан вражеского государства, сгоревших или заваленных обломками разбомбленных зданий. Но еще страшнее этого ужаса было духовное предательство, сделавшее его возможным: предательство того, в чем благодаря новому зрению видел он главную святыню, – уз братства, связывающих все живое. Его захлестывали мысли, которые вряд ли сумел бы выразить грубый жаргон умирающего мальчика. Роясь в завалах вульгарных словечек, он откопал в кладовых памяти запылившиеся от бездействия слова и фразы. «Как я мог быть таким… таким бесчувственным? – спрашивал он себя. – Таким… толстокожим животным и таким трусом, что согласился участвовать в этой дикой бойне? И чем мне стереть, смыть этот грех? Я очнулся и увидел, что стою по горло в нечистотах, в вонючей яме, из которой мне ни за что не выбраться».
Впрочем, очень скоро мысли его переменились. Поднявшись над собой, он более объективно увидел не только участие в убийстве, но и всю жизнь без цели и смысла.
Обратившись к старому жаргону, он вздохнул: «Бедный тупица, болван несчастный!» И, мучительно подбирая слова, которые бы вернее выразили его новое, оживившееся понимание: «Этот бедный лунатик не мог иначе. Возможно ли для такого бесчувственного существа освободиться от всеобщего греха? Мог ли человек, который так боится разочарований, так пресмыкается перед волей племени, увидеть, что племя ошиблось, и восстать против него? От него только и можно было ожидать, что, повинуясь зову племени, он предаст свободу ради умения драться и убивать. Так он и сделал».
Еще одна мысль медленно оформилась под беспокойным взглядом пробудившегося светлого «я» кормового стрелка. Озирая все, что он успел узнать о мире людей, наконец переваривая, критикуя это знание, он увидел, что, даже осмыслив огромность этой бойни, остался бы не прав, уйдя в сторону. Ведь отстраниться – означало бы отвергнуть отчаянный призыв о помощи. Миллионы человеческих существ, страдая от ужасающей тирании, взывали о спасении, и не было другого средства спасти их, кроме этой отчаянной войны. Тщетно было бы в этом случае проповедовать всеобщее братство и давать пример ненасилия. Более того, сознание всех людей было так глубоко и тонко извращено, так безумно предано ложным ценностям, в такой страшной беде оказался род человеческий, что только насилие, только беспощадное убийство могло сохранить надежду на лучший мир.
«Уйди я в сторону, – признал он, – я оказался бы самым отвратительным снобом, я был бы повинен в снобизме праведников. Все равно что умыть руки ради спасения своей драгоценной чистоты».
Однако, вспоминая рассказы о беззаветном самопожертвовании других, отказавшихся от участия в войне, он задумался, нет ли в его понимании вещей белых пятен, ведь иные были так уверены, что насилие, в конечном счете, неизбежно влечет больше зла, чем добра.
Но тут же он сказал себе: «Возможно, эти провидцы и правы, и, несомненно, они верны своим убеждениям. Но… как можно ради неверного будущего отвергнуть нынешний настойчивый призыв к спасению от жестоких угнетателей, палачей?
На него навалились смятение и ужас.
«Верно, мир – это сплошной ад, – воскликнул он, – если его единственная надежда на то, что ради спасения страдающих жертв миллионы других заставят себя прибегнуть к дьявольским орудиям войны, пойдут на самые гнусные преступления… против чего? Назовем это духом? Преступление против того самого духа, который они хотят спасти. Да, воистину этот мир – сплошной ад!»
Но, вспоминая более яркие и светлые моменты своей короткой жизни, он возражал сам себе: «Нет, не ад, но подпорченная красота, надежда на красоту в боли и смятении. Где, когда, в какой форме мир принял яд?» У него не было ответов на эти вопросы, ведь он знал о мире не более среднего молодого человека, и даже его оживившийся разум отступал перед невежеством.
Когда два «я» кормового стрелка – если их было два и если то были именно «я» и если они были действительно его «я» – досмотрели жизнь до последнего мига муки и гибели, чувства их сильно переменились. Обычный мальчик перед лицом окончательной гибели вскричал, будто бы со всей силой своего существа: «Господи, дай мне жить!» И с этой последней молитвой сам кормовой стрелок: обычный, жадный, боязливый сноб, способный, однако, вместе со своим экипажем и на самообладание, и на товарищество – этот стрелок кончился. Вполне возможно, что крик этого бедного самовлюбленного и обреченного разума отдался эхом от звезды к звезде, от галактики к галактике и, может быть, даже достиг ушей милосердного Бога, если такой есть, вместе с такими же последними криками шести его товарищей и других погибших экипажей, вместе с криками горожан, сгоравших в своих ульях, и всех умиравших на земле, на море и в воздухе во всех краях Земли.
Но другое, незнакомое «я» кормового стрелка, слыша его крик и крики других убитых, с презрением отвечало на эти мольбы: «Не я, – уверял кормовой стрелок в своем более светлом образе – или чужак, пробудившийся с гибелью кормового стрелка. – Не я, кто-то другой повинен в этом крике. Это кричал зверь, недочеловек, живущий во мне».
Так в последний миг кормового стрелка, подобно другим убитым, раздирал внутренний конфликт. Обычный мальчик на грани уничтожения столкнулся с возвышенным вопрошающим существом, живущим в нем самом. Он предполагал, что холод его желаний принадлежит самой смерти, уже подточившей жизненные силы и разрушающей мозг. Но в то же самое время он, он сам (если то был действительно он), но в новой, чужой, оживившейся форме, недорого оценивая свою прошлую жизнь, заявлял: «Я всю дорогу заваливал экзамен за экзаменом. Я искал легких путей. Я гонялся за маленькими удовольствиями и спасался от маленьких страданий. Когда мне представлялся случай вырасти, я отворачивался, то из лени, то из страха или обычной тупости, и каждым шагом в тумане мелких страстишек гасил теплящийся во мне свет. Что я мог бы совершить, чем стать, если бы не решил прожить жизнь во сне! А теперь поздно. Упущенных возможностей уже не вернуть». Его охватило раскаяние и презрение к себе. Особенно презирал он свое низшее «я» за тот последний крик отчаяния, призыв к божеству, в которое он никогда не верил, чье имя называл лишь для красного словца. «Низкое существо, захлебывающееся от жалости к себе, – сказал он. – Что за важность, если такая тля умрет, не осуществившись».
Но даже более светлое «я» кормового стрелка не было свободно от сожалений перед лицом уничтожения. Пусть оно было равнодушно к выживанию индивидуума, но и ему представлялось, что с его уходом окончится что-то, может быть, более ценное. Представлялось, что все скудные сокровища опыта, накопленные за его краткую жизнь, теперь, с его гибелью, тоже пропадут. Если бы знать, что они вольются в космическую или божественную сокровищницу опыта, как капля в океан! Но рассчитывать на это не было оснований, а прояснившийся разум презирал веру без доказательств, веру ради утешения. Что ж, океан не слишком обеднеет без одной капли. Более того, мальчик с горечью сознавал теперь, что в его дремотном существовании вряд ли нашлось бы что-то уникальное, стоящее сохранения. Пусть так, но вот шестеро его товарищей, и тысячи убитых на войне, и все, умершие и умирающие во всех века, во всех странах? Все эти звезды, которые на самом деле – солнца, разумные миры, разбросанные, пусть редко, по всем галактикам? Неужели все эти сокровища опыта просто исчезают вместе с эфемерным телом, несшим их в себе?
Кормовой стрелок – даже его светлое «я» – с тоской думал о тщетности подобного бытия. Однако он внушал себе, что даже потеря сокровища ничего не значит. Важно другое – чтобы ростки мириадов жизней приближали этот конкретный мир к счастью. Но что такое счастье? Счастье букашек, подобных ему? Значит, речь не просто о счастье, а о воплощении этих букашек в обогащенном, более проницательном, более разборчивом, более творческом существе. (Какие непривычные слова! Откуда они всплыли в нем?) Пробуждение в букашках более утонченного чувства с каждым поколениям разума. Так, значит, оправдание эпохам убожества и страданий – некая завершающая, славная, космическая утопия? Будет ли это ужасающе возвышенная утопия суперразумов, занятых работой суперумников? И снова стрелка охватило уныние, когда он подумал о неизбежном упадке и гибели этого далекого общества. Ведь ученые утверждают, что весь мир движется на часовом заводе, и, когда он иссякнет, все живое уничтожится. Его воображению предстали миллионы ледяных миров, покрытых промерзшими сотами бывших городов под саваном последнего снегопада.
Кормовой стрелок или тот, кто пробудился в нем в последний миг, изнемогал от одиночества и жаждал только сна. Он смутно воспоминал все случаи, когда после тяжелого дня падал в постель и рушился, рушился в мирные глубины сна (опять материнское лоно). В те ночи, скажи ему кто, что он никогда не проснется, он бы вскочил с кровати; теперь же, предполагая, что сон будет вечным, он с благодарностью вздыхал и натягивал на голову одеяло забвения. Наконец даже последняя жажда гибели погасла в нем, и с ней всякое мышление, всякое сознание.






