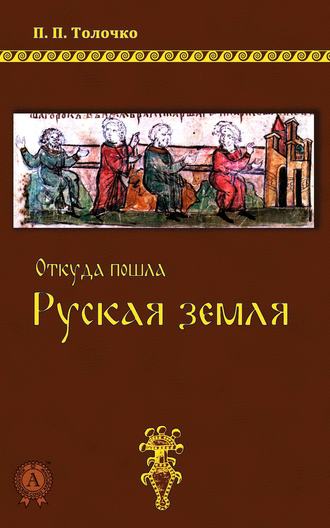
Петр Толочко
Откуда пошла Руская земля
Глава 2
В поисках загадочного Руского каганата
Известия арабских авторов IX в. о стране Русов, царя которых зовут «хакан русов», не находят среди исследователей единодушного толкования. Труднее всего им дается проблема локализации этой загадочной страны. Историкам-норманнистам В. Томсену и А. Стендер-Петерсену, а вслед за ними и украинскому диаспорному ученому О. Прицаку, казалось, что Руский каганат, являвшийся политическим предшественником Киевской Руси, располагался в междуречье Волги, Трубежа и Которосли[98]. Согласно П. Б. Голдену, Руский каганат размещался в бассейне Оки и являлся вассалом хазарского кагана[99]. Д. А. Мачинский, А. Н. Кирпичников, Дж. Шепард, К. Цукерман убеждены, что он находился в Волховско-Ильменском бассейне, а его столицей была сначала Ладога, а затем Новгород (Рюриков городок)[100].
А. Н. Насонов, Б. А. Рыбаков, Х. Ловмянский, Г. Г. Литаврин, В. В. Седов, автор этих строк и другие обосновывали среднеднепровское местоположение изначальной Руси[101]. Ряд исследователей склонны были размещать Руский каганат на юге – в Тавриде и Крыму. Согласно А. П. Дьяконову, В. Г. Васильевскому, А. Н. Насонову, уже в ІХ в. имя русов было «не только известным, но и достаточно распространенным в южном побережье Черного моря»[102]. В 60 – 70-е годы ХХ в. мысль о южном местообитании русов получила развитие в трудах киевского археолога Д. Т. Березовца. Сопоставив свидетельства восточных авторов с археологическими реалиями Подонья и Приазовья VIII–X вв., исследователь пришел к выводу, что именно в этом регионе и находилась первичная Русь[103].
В связи с празднованием 1250-летнего юбилея Старой Ладоги, идея Ладожской Руси обрела как бы второе дыхание. По мнению А. Н. Кирпичникова, во второй половине VIII – первой половине IX вв. Ладожская Русь наряду с Хазарией выдвинулась как торговый лидер евразийских экономических связей по Великому Волжскому пути. Ладога стала резиденцией правителя, стольным княжеским городом, т. е. столицей складывающейся державы Рюриковичей.
Аналогичного мнения придерживался и Д. А. Мачинский. Согласно его версии, в пяти из семи известных списков «Повести временных лет» первым городом, где «сел» приглашенный на княжение Рюрик, т. е. столицей, названа Ладога. Причем, уже в дорюриково время ее властелины будто бы не удовлетворялись титулами конунга или князя, а претендовали на более высокий. На какой? Оказывается, на «хакана народа рос», что будто бы подтверждается Бертинскими анналами, повествующими о визите в 839 г. к Людовику Благочестивому послов «хакана» народа «rhos»[104].
Энтузиазм петербургских археологов, располагающих таким роскошным ранним памятником, как Ладога, к тому же так обстоятельно исследованным А. Н. Кирпичниковым, можно понять, но для столь ответственного вывода о первичной Руси в бассейне Волхова и Ильменя одних патриотических предубеждений мало. Ссылки на Бертинские анналы не корректны, поскольку в них вообще ничего не говорится о местонахождении Руского каганата. Свидетельства руских летописей носят полусказочный характер, но и в них сведений об Волховско-Ильменской Руси нет. Сказано, что Рюрик «сел» в Ладоге, но максимум, на что дает право данное известие, – это на утверждение, что этот город стал политическим средоточием варяжских пришельцев. С большой натяжкой можно сказать – «столицей державы Рюрика» (и то всего на два года), но никак не «державы Рюриковичей», коих еще не было в природе.
В последнее время с развернутым обоснованием северного местонахождения начальной Руси выступил французский историк К. Цукерман, предложивший заодно и пересмотр всей начальной истории Древней Руси[105]. Исходя из того, что хронология Повести временных лет не может претендовать на абсолютную, он предложил свою, как ему кажется, более реалистичную. При этом, оповестил научный мир о своем «открытии» с настойчивостью миссионера-проповедника. Статьи на эту тему он опубликовал на французском, английском, русском и украинском языках. В одной из последних с огорчением посетовал, что «читатели-специалисты, сжившиеся с «условными» датами, отозвались в общем в том смысле, что ни проблем им моих, ни решений не надо, не сознавая, что как в известной сказке Андерсена, тщательно охраняемой условности явно настал конец»[106].
А теперь попробуем вникнуть в суть рассуждений К. Цукермана. В целом, они сводятся к тому, что ни общая канва ранней руской истории, ни ее хронология, изложенные в Повести временных лет, не имеют ничего общего с реальностью. Вместо привычной летописной предложил свою схему начальной Руси. До того, как политический ее центр оказался в Среднем Поднепровье, руская государственность, согласно ему, пережила два этапа своего формирования. И оба на севере. Первый приходится на 30-70-е годы IX в., второй – от прихода к словенам Рюрика в 895 г. и до начала X в., когда ее политический центр перемещается в Среднее Поднепровье. На первом этапе это государственное образование называлось Руским каганатом, находилось в бассейне Волхова, а столицей имело Ладогу. В начале 70-годов IX в., в результате какой-то неизвестной межплеменной войны, Руский каганат оказался разрушенным, на смену ему в 90-е годы ІХ в. пришло новое образование во главе с Рюриком, сохранившее прежнее название «Русь»[107].
Среди источников, дающих основание для таких выводов, К. Цукерман называет Бертинские анналы, письмо византийского императора Василия І Людовику ІІ Италийскому от 871 г., свидетельства арабских авторов Ибн Русте (около 920 г.) и аль-Якуба (889–890), а также «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона и другие руские письменные известия. На первый взгляд – достаточно объемная источниковая база, но в действительности не располагающая конкретными данными ни о Руском каганате, ни о его местонахождении. Все свидетельства требуют исследовательских интерпретаций.
Центральное место в доказательствах К. Цукермана о Руском каганате в Волховско-Ильменском регионе занимает письмо Василия І Людовику ІІ Италийскому. Оно не сохранилось, но по ответу франкского короля можно судить о его содержании. Судя по всему, Василий І был возмущен тем, что титул каган (chakanus), равный императорскому, носят верховные правители аваров, хазар (Cazari) и норманнов (Nortmani). В ответе Людовик ІІ заявил, что он «заметил» только аварского кагана, но не хазарского и не норманнского. Из этого К. Цукерман сделал следующий вывод: «Норманнский каган, неизвестный франкскому императору, может быть только каганом народа Rhos, упоминаемого в Бертинских анналах»[108]. Так интерпретировал ответ Людовика ІІ и А. В. Назаренко, о чем речь шла в предыдущей главе.
Здесь возникает вопрос, а почему не каганом хазар? Ведь последний тоже неизвестен Людовику ІІ[109]. К тому же письмо Людовика ІІ датируется 871 г., когда, по хронологии К. Цукермана, Руский каганат на Волхове был уже кем-то разгромлен, а новое объединение во главе с Рюриком появится только через четверть столетия. И вообще, аргументировать что-либо фактом незнания совершенно неприемлемо.
Не большей конкретностью обладают и сведения восточных авторов Ибн Русте и аль-Якуба. Первый из них сообщает о полуострове русов, который находится на расстоянии трехдневного пути, состоит из болот и лесов, а «государь их носит титул кагана русов». Как видно, в тексте Ибн Русте не говорится ни о том, что русы это норманны, ни о том, где находился их загадочный полуостров. К. Цукерман не обратил внимания на уточнение о «трехдневном пути», а оно-то как раз и не указывает на далекий север, к которому путь от Арабского мира был неизмеримо длиннее.
В Книге стран аль-Якуба нет и таких двусмысленных свидетельств. Осажденные в 854 г. в горах к югу от Дарьяла арабской армией, цанары (санарийцы) обратились с просьбой о военной поддержке к императору Византии, хазарскому государю и государю славян (al-Sakaliba). Ни о кагане, ни о русах в тексте нет ни слова, и, тем не менее, К. Цукерман полагает, что речь в нем идет именно о кагане русов. «Трудно себе представить, – пишет он, – кто бы мог быть этим государем славян, кроме кагана русов»[110].
Однако еще труднее представить, чтобы осажденные в горах Дарьяла цанары обращались за помощью к какому-то государю, находящемуся от них за полторы тысячи верст. И когда бы такая помощь могла к ним поспеть, если только на донесение известия о беде, постигшей цанар, понадобилось бы около двух месяцев. Византия и Хазария находились совсем рядом. Замечание К. Цукермана о том, что Ибн Хордадбех смешивал русов и славян, не вызывает неприятия, но и не подкрепляет его вывод. Арабский географ ведь смешивал не норманнов и русов, но славян и русов.
Комментировавший этот источник раньше К. Цукермана В. В. Седов, также пришел к заключению, что «государем славян в то время мог быть только глава Руcского каганата». Однако располагал его не на севере восточнославянского мира, а на юге, вблизи Хазарского каганата[111]. А. П. Новосельцев в «сахибе ас-сакалиба» усматривал киевского князя[112]. Еще раньше именно так объяснял свидетельство аль-Якуба М. И. Артамонов[113].
Что касается упоминаний слова «каган» в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, в надписи на стене Софии Киевской и в «Слове о полку Игореве», то привлекать их в качестве источников для доказательства существования Руского каганата на берегах Волхова, как и в каком-либо другом регионе, совершенно немыслимо. Они не могут быть даже аргументами, о чем речь ниже, в пользу того, что руские князья вообще когда-либо носили этот титул.
Как кажется К. Цукерману, в настоящее время сохраняют актуальность только две гипотезы: одна, помещающая Руский каганат в Среднем Поднепровье (с центром в Киеве), и другая, связывающая его с Волховом (с центром в Рюриковом городке). Однако, будучи априори убежденным в верности отождествлений Д. Мачинского, С. Франклина и Дж. Шепарда[114], он объявил гипотезу о Cреднеднепровской Руси совершенно бесперспективной.[115] Причем, для отрицания идеи автохтонного происхождения названия «Русь» от иранского «Rhos» (Rosomoni, Roxolani), которую обосновывали в свое время Г. Вернадский, Б. Рыбаков и другие историки, ему оказалось достаточно лишь отсылки к критическому разбору ее Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухиным[116].
Свое же неприятие Руси ІХ в. на Среднем Днепре К. Цукерман обосновал отсутствием здесь скандинавских древностей этого времени. При этом, в своих первых публикациях почему-то ссылался не на результаты исследований киевских археологов, а на компиляцию И. Каллмера[117]. Понимая, что рассуждения о Руском каганате в бассейне Волхова будут хоть чего-нибудь стоить, если удастся показать, что Киев в то время и вовсе не существовал, К. Цукерман значительную часть своей статьи посвятил именно этому доказательству. Причем, он не пытался разобраться в киевских древностях сам, не использовал публикации киевских археологов, а сослался на авторитет своих европейских коллег. Ему, в частности, импонировало мнение И. Каллмера, что начало самого раннего «урбанистического» этапа в истории Киева приходится на 80-е годы IX в. и что этот век – один из наименее интересных периодов в истории данной издревле заселенной местности.
В одной из последующих статей, как бы отвечая на мое замечание о невнимании к исследованиям киевских археологов, содержащееся в ответе на его публикацию в журнале «Археологія» № 1 за 2003 г., К. Цукерман исправляет свою прежнюю оплошность и приводит ссылки на М. Сагайдака, будто бы обнаружившего разрыв в заселении Киева с конца VIII в. по конец IX в., и А. Комара, эпатирующего научную общественность утверждениями, что «на сегодня у нас нет реальных фактов, подтверждающих существование Киева во второй трети ІХ в.», а также о какой-то карательной акции Руского каганата во главе с Аскольдом и Диром против Киева.
Предлагаемый А. Комаром анализ, как кажется К. Цукерману, «радикально меняет характер взаимоотношений этих исторических деятелей с населением Киева по сравнению с летописной традицией»[118]. Поразительно! Отказывая в доверии Нестору, писавшему летопись в конце ХІ – начале ХІІ в., К. Цукерман с такой обезоруживающей непосредственностью воспринимает сказку Комара, который, не будь Нестора, и вообще бы ничего не знал об Аскольде и Дире.
Да и нет здесь никакого «анализа». Вывод о разгроме Киева Аскольдом и Диром не только безосновательный, но и безответственный. Письменных свидетельств об этом немыслимом разгроме нет, а на основании археологических артефактов сделать его заведомо невозможно. Это не больше, чем частное, к тому же непрофессиональное мнение, и странно, что оно подвигло К. Цукермана на столь радикальное суждение о пересмотре летописной традиции.
Не более чем мнениями являются и утверждения о каком-то перерыве в жизни Киева с конца VIII в. по конец IX в., как утверждает М. Сагайдак, или во второй трети ІХ в. как это кажется А. Комару. С прискорбием должен сознаться, что существующие ныне методы датировок не позволяют нам определять хронологию керамики, на которой названные исследователи основывают свои заключения, не только с точностью до четверти, но и до целого столетия. Что касается наблюдения М. Сагайдака, то оно относится только к Подолу. Но также далеко не безусловное. Хорошо зная материалы подольских раскопок, я не могу его разделить. Против него свидетельствует уже хотя бы тот факт, что постройка с дендродатой 887 г. покоилась не на материковой почве, но на культурном слое, содержавшем раннегончарную и лепную керамику.
Вторым важным доказательством «небытия» Киева в IX в. является якобы отсутствие на его территории восточных монет двух последних третей IX в. Здесь К. Цукерман ссылается на мнение Т. Нунана, утверждающего наличие торговых связей между Киевом и Востоком не ранее 900 г[119].

Следует отметить, что вывод этот не нов: лет за 30 до Т. Нунана он был сделан М. К. Каргером[120]. Согласно ему, распространенное до недавнего времени положение о том, что киевские клады восточных монет охватывают период с конца VIII в. до начала X в., не соответствует действительности. Никаких кладов VIII и даже IX вв. в Киеве не найдено. Все они зарыты в землю в первой половине X в. Именно в то время, как полагал М. К. Каргер, и устанавливаются прочные связи Киева со среднеазиатским Востоком[121]. Никаких документальных данных для такой датировки времени зарытия кладов нет, но даже если это и так, тогда факт выпадения из оборота арабского серебра в первой половине Х в. свидетельствовал бы не об установлении прочных связей Киева со среднеазиатским Востоком, а об их свертывании.

Мне уже приходилось писать об этом необъяснимом заблуждении М. К. Каргера и последовавших за ним нумизматов[122]. Для характеристики торговых связей Киева с Востоком в ажным является не столько время зарытия кладов, сколько даты самих монет. Редко какой клад состоит из одновременных монет, большей частью эти ценности собирались, изменяя свой состав под воздействием рынка, на протяжении нескольких столетий. Последняя монета в кладе указывает не на дату его зарытия, а на то, что с этого времени сокровища больше не пополнялись новыми монетами. Считать, что время поступления всех монет в Киев должно определяться датой позднейших, методически неверно. В Киеве найден клад, в котором среди 200 медных куфических монет VIII–X вв. было несколько поздних, датируемых XIII в.[123], но вряд ли будет серьезным утверждать, что все монеты попали в Киев только в ХІІІ в.

По литературным свидетельствам, количество восточных монет, найденных в Киеве, составляет более 11 тыс.[124] Но определенно, это только незначительная часть диргемов, поступивших в Киев с Востока. Многие из них еще во времена Киевской Руси, особенно в так называемый безмонетный период, были переплавлены в слитки – монетные гривны киевского типа. Значительное количество диргемов попало также в тигли киевских ювелиров ХІХ – нач. ХХ вв.
По годам чеканки восточные монеты охватывают период с VIII в. по середину Х в. Наибольший их процент приходится на ІХ – нач. Х вв. Это аббасидские диргемы, чеканенные в Багдаде, Бердаа и других городах (771–890 гг.), тагеридские диргемы, происходящие из Шаша, Мерва и Самарканда (862–878 гг.), саманидские диргемы из Шаша, Самарканда и Балха (893–906 гг.). К сожалению, не все киевские находки восточных монет были достаточно хорошо атрибутированы. Так, о кладе в усадьбе проф. И. Сикорского (Б. Подвальная ул., д. 15) в первой публикации сказано, что состоял он из 2930-ти монет, чеканенных между 709-м и 906-м годами. В кладе 1863 г. на кладбище Иорданской церкви находились монеты чеканки 893–936 гг., однако в каком соотношении, неизвестно. Крупнейший клад куфических монет, найденный в 1706 г. при постройке Печерской крепости и состоявший из 2–3 тыс. экземпляров, был депаспортизирован и растворился в собрании монет Азиатского музея Академии наук[125]. Из числа определенных монет ранние чеканены в 746/47 – поздние в 905/6годах.
Одиночные находки арабских монет (в культурных слоях и погребениях) также датируются VIII- первой четвертью Х вв. Без признания существования налаженных торговых связей Киева с Востоком в это время подобная закономерность нумизматических находок не может быть удовлетворительно объяснена. Уже первые исследователи арабских монет не сомневались в том, что в Киев они попали в результате торговли, которая зародилась еще в VIII в. Р. Р. Фасмер датировал начало поступления восточных монет в славянские земли ІХ в., а В. Л. Янин – 70-80-ми годами VIII в[126].
Кроме монет наличие связей Киева с Востоком подтверждает керамика салтовского облика, выявленная в жилище VIII–IX вв. на Старокиевской горе, а также в культурном слое Подола. В пределах «города» Ярослава обнаружен могильник с катакомбными погребениями.
Не более убедительным является и аргумент, согласно которому говорить о Южной Руси IX в. не позволяет якобы полное отсутствие каких-либо скандинавских находок ранее X в. в Киеве и на всем Среднем Поднепровье[127]. Не правда ли, интересная логика рассуждений? Сначала априори делается вывод о том, что русы это шведы, а затем отсутствием следов этих самых шведов в Киеве и Среднем Поднепровье ранее X в. доказывается невозможность нахождения здесь и Руси. Объективности ради следует сказать, что со скандинавскими следами в Киеве и Среднем Поднепровье не все так безнадежно. Их хотя и немного, но они есть. Это, прежде всего, так называемые скорлупообразные, а также кольцевые фибулы с длинными и обычными иглами, которые датируются ІХ-Х вв.
В основе новых исторических реконструкций К. Цукермана, по его собственному уверению, лежит весьма консервативный подход к письменным источникам. Начиная с повествования об изгнании варягов и призвания Рюрика, соглашается он, летописный текст дает, в общем, достоверный обзор истории Руси, который не противоречит ни сведениям иностранных источников, ни данным археологии. Претензии у него, как будто, только к летописной хронологии, которая неспособна ответить на поставленный летописцем вопрос: «Откуда есть пошла Руская земля»[128].
Из дальнейших рассуждений автора, однако, следует, что так называемой «перестройке» подверглась не только хронология, но и само историческое повествование, содержащееся в Повести временных лет. Необходимо отметить, что основой для этого послужили не новые источники, которых бы не знали другие историки, занимавшиеся этой проблемой, а новый авторский взгляд, или, как принято нынче говорить, новое прочтение источников. При этом К. Цукерман отдал предпочтение не Повести временных лет, а Новгородской первой летописи, которая содержит текст киевского свода, вошедшего в науку под названием Начального. Со времени его выделения А. А. Шахматовым, за ним закрепился авторитет более раннего и более соответствующего историческим реалиям текста. Временем создания этого свода считаются 90-е годы ХІ в., что всего на каких-то 20 лет старше Повести временных лет. Столь незначительный временной разрыв не дает основания полагать, что Начальный свод содержит более исправный текст и хронологию по сравнению с Повестью временных лет.
Работая над книгой «Русские летописи и летописцы Х-ХІІІ вв.», я пришел к выводу, что первым общеруским сводом, который послужил основой для последующего областного летописания, была Повесть временных лет. Сличение Новгородской первой летописи младшего извода и Повести временных лет обнаруживает их большое сходство на пространстве от Игоря Старого до Изяслава Ярославича. Причем, сходство это проявляется не только в составе киевских известий, но также и в их отсутствии. По существу, Новгородская первая летопись младшего извода до статьи 1074 г. напоминает структурно и содержательно Повесть временных лет. Одновременно с выходом моей книги вышла статья Т. Вилкул, в которой она также пришла к выводу, что в основе Новгородской первой летописи лежит не Начальный свод, которого, скорее всего, и вообще не было, но Повесть временных лет[129].
С неопровержимой убедительностью этот вывод обоснован Т. Вилкул в монографическом исследовании, посвященном киевскому летописанию домонгольского периода. Осуществив сравнительный текстологический анализ Повести временных лет, Новгородской первой летописи младшего извода и поздних Летописцев, она убедительно показала, что составители НПЛ использовали в качестве источников не какой-то ранний киевский свод, но самую ПВЛ, а также хронографы XIV–XV вв. И, конечно, летописеведам и историкам придется принятья её главный вывод, сводящийся к тому, что идею сохраненного в НПЛ Начального свода, который предшествовал ПВЛ, следует окончательно оставить[130]. Хронологической и содержательной разноголосицей с Повестью временных лет Новгородская летопись младшего извода во вводной части и первых датированных статьях обязана, главным образом, Хронографу по великому изложению[131].
Следовательно, доверяться свидетельствам НПЛ без критического анализа совершенно невозможно. Тем не менее, именно так поступает К. Цукерман. Летописный рассказ о княжении Игоря (после исчезновения Олега) в НПЛ, как ему кажется, не оставляет сомнений в том, что в представлении автора «Сказания» это правление было очень кратким, и если исходить из общепризнанной даты его гибели (зима 944/45 гг.), то начало его княжения приходится на лето 941 г[132].
Трудно сказать, какое прочтение здесь применил К. Цукерман, чтобы прийти к столь оригинальному выводу. Обычное не дает для него и малейших оснований. Первое датированное известие об Игоре в Новгородской первой летописи относится к 920 г. Второе – 921 г. говорит об Игоре и Олеге, третье – 922года называет одного Олега, который в том же году и умер. Следовательно, если считать время княжения Игоря от смерти Олега и до его собственной, то получится не три, а 22 или 23года.
Дальше в НПЛ идет вереница пустых лет, после которых вновь об Игоре идет речь только в статье 940года. Обычное объяснение, что у летописца не было материала для их заполнения, К. Цукермана не устроило, и он вычел их из общего числа княжеских лет Игоря. Но ведь при таком прочтении летописи к аналогичному или близкому выводу можно было прийти и на основании свидетельств Повести временных лет. В ней, между первым годом Игоревого княжения (913 г.) и рассказом о походе его на греков (941 г.), также идут пустые или полупустые годы. Стоило ли, в таком случае, так безоглядно доверяться известиям Новгородской первой летописи?
В действительности, К. Цукерман сократил время княжения Игоря до трех лет вовсе не на основании свидетельств руской летописи, чего сделать в принципе невозможно, но исходя из сообщений письма Х в. из Каирской генизы, так называемого Кембриджского анонима. В нем неудачный поход Руси на Константинополь 941 г. связан не с Игорем, как в руских летописях, а с Олегом. После поражения от греков он будто бы ушел к берегам Малой Азии (или в Персию), где и погиб.
К сожалению, у нас нет убедительных оснований относиться к свидетельствам Кембриджского анонима как к непреложной истине. Письмо известно по рукописи ХІІІ в., и нет никакой гарантии, что оно не претерпело каких-то редакционных изменений. Но даже если оно и сохранило свою аутентичность, трудно поручиться, что его автор был хорошо осведомлен о руских событиях первой половины Х в. и с документальной точностью отобразил их. А. П. Толочко, вслед за П. Коковцовым, склонялся к тому, что это произведение появилось в ХІІ-ХІІІ вв. и в основе своей имело разнородные и не очень достоверные данные. Единственным способом спасти сообщения Кембриджского документа для истории Руси – это признать, что в нем в достаточно искаженном виде говорится о походе Игоря на Византию[133].
Определенно, в данном письме содержится элементарная путаница Олега с Игорем. К тому же, имеет место совмещение сведений 941 г. с более ранними, когда Олег действительно ходил на Каспий. И вряд ли корректным здесь будет объяснение, что под Олегом следует видеть не киевского князя, а какого-то «автономного» черниговского – члена руского княжеского рода, что предположил В. Я. Петрухин[134]. Для столь ответственного вывода ссылок на «специфику дружинных древностей Черниговщины и особую связь ее с Хазарией и Тмутараканью» не достаточно. Источники же такого черниговского князя для этого времени не знают.
Особое место в своих построениях о Руском каганате К. Цукерман отвел сообщению летописи об изгнании варягов, при этом посетовав на недостаточное внимание к этой теме своих предшественников. Как ему кажется, события, изложенные в статье 862 г. Повести временных лет, не могли произойти за один год, но требовали более продолжительных сроков.
Ну, разумеется. Все дело только в том, как определить эти сроки. В письменных источниках, в том числе и в Новгородской первой летописи, никаких дополнительных сведений на этот счет нет, а археология, на которую исследователь, не будучи археологом, возлагает особые надежды, ответить на вопросы, когда произошло изгнание варягов (как и призвание), не может по определению. Это вне ее исследовательских возможностей.
Следы пожаров в Ладоге (около 870 г.) и на Рюриковом городище (после 867 г.), скорее всего, никакого отношения к изгнанию варягов не имеют. Деревянные руские города горели достаточно часто. Равно, как и «признаки нового взлета» данных поселений в последнем десятилетии ІХ в. невозможно связать с появлением в них Рюрика, что утверждает К. Цукерман. И уж, конечно, на таком зыбком археологическом фундаменте нельзя строить здание Руского каганата на Волхове.
Кстати, несмотря на просветительскую настойчивость автора, читателю так и осталось неясным, как, когда и откуда социальный центр Руского каганата переместился в Среднее Поднепровье. «По моему мнению, – пишет К. Цукерман, – захват Киева следует датировать никак не ранее 911 г. (договор с Византией составляет terminus post quem для заключения союза между Игорем и Олегом), вероятнее всего – концом этого десятилетия»[135].
«Этого» – надо полагать второго. Но тогда получается, что договор с Византией, а следовательно и предшествующий ему военный поход, он не связывает с Киевом. Логично предположить, что с Новгородом, но последующие его размышления разрушают и эту возможную связь. «Олег захватывает Киев именем Игоря и, со временем, распространяет свою власть на Новгород… Наилучшим индикатором даты подчинения Новгородских пределов власти Олега является само появление «Нового города» на левом берегу Волхова в 930-е годы». Любопытно здесь и еще одно откровение автора, согласно которому старый династический укрепленный центр, располагавшийся на Рюриковом городище, мог пострадать при захвате, а главное, перейдя под руку князей Киевских[136].
Сказанное выше и вовсе повергает «просвещенного читателя», к которому постоянно апеллирует исследователь, в смятение. Ведь если до овладения Киевом власть Олега не распространялась даже на Новгородскую землю, то о каком Руском каганате на Волхове вообще можно говорить.
Как видно, «консервативного» подхода к летописным свидетельствам у К. Цукермана не получилось. Единственное, что он не подверг сомнению и пересмотру в Повести временных лет это содержащееся в ней отождествление варягов с русами. Это название «Рос-Русь», согласно ему, было присуще еще «до-рюриковому» этапу проникновения скандинавов в славяно-финскую среду. Оно же являлось самоназванием подданных кагана, чьи послы посетили императора Феофила в Константинополе, а затем и Людовика Благочестивого в Ингельгейме 18 мая 839 г.[137]
В главе «Откуда есть пошла Руская земля» этот вопрос рассмотрен мной более подробно, здесь же следует сказать, что варяжские пришельцы превращались в русов только после прихода в Киев[138]. На Киев Олег выступил, «поимъ воя многи, варяги, чюдь, словѣни, мерю, весь, кривичи». После овладения Киевом он провозгласил его матерью городам руским, а северная дружина получила наименование «руси». «И сѣде Олегъ княжа въ Киевѣ, и рече Олегъ: «Се буди мати градомъ русьскимъ. И бѣша у него варязи и словѣни и прочи прозвашася русью»[139]. Во всех других известиях о варягах (ст. 944, 980, 1024, 1036 гг.), которых киевские князья привлекали для участия в военных кампаниях, нет и намека на то, что они были еще и русами. Из летописных свидетельств явствует, что варяги не приносили на юг восточнославянского мира название «Русь», но сами обретали его здесь.
Из сообщений о походах русов в Крым, Амастриду, на Каспий и Кавказ можно прийти к выводу о сравнительно большом их государственном образовании, располагавшим значительными людскими и материальными ресурсами. О малозаселенном волховско-ильменском крае в IX в. этого не скажешь. Разумеется, была Ладога, однако попытки представить ее столицей Руского каганата совершенно некорректны. В ряде летописных списков она названа местом, где сидел Рюрик, но ни в одном не обозначена как центр какого-то раннегосударственного образования. Даже если предположить, что Рюрик первоначальным местом своего «сидения» избрал Ладогу, из этого вовсе не следует, что она обладала каким-то особым столичным статусом. В летописи говорится, что Рюрик «сѣде в Ладозѣ», а не «сѣде на столе в Ладозѣ», как интерпретировал это место Д. А. Мачинский[140].
Как видно, автор взял в кавычки слова «сяде на столе», которых в летописи нет. Там имеется слово «сѣде», которое относится не только к Рюрику, но и к его братьям. Следовательно, если он сел на столе, то и они сели на столах. Таким образом, следуя подобной логике, можно утверждать, что на севере Руси в IX в. было три стольных города, а не один. Через два года («по двою же лѣту») братья Рюрика умирают, а сам он перебирается в Новгород (вероятно в городок, именуемый ныне как «Рюриково городище»), что также предполагает наличие в нем княжеского стола. Кстати, если в Ладоге Рюрик просто «сѣл», то в Новгороде «сѣде ту княжа»[141].


