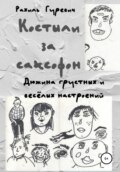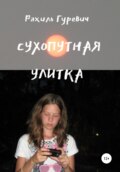Рахиль Гуревич
Адгезийская комедия
«Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь, – который раз?
Что счастие? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные, порочные услады
Вина, страстей, погибели души?
Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот…
Очнешься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет…
Вздохнул, глядишь – опасность миновала…
Но в этот самый миг – опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!
И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон, -
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен…
Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать…
Как страшно всё! Как дико! – Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять».4
Массивная дверь заскрипела – то есть руль открывался сам собой.
Гниды, подумала я, зубы заговаривают, а ведь домой не отпустят! Я встала, но тут же вспомнила, в каком состоянии юбка, которую я неистово рвала совсем недавно. Выжившие в неравной борьбе обрывки юбки вдруг стали стекать с меня, как ведьмин студень, про который мне все уши прожужжал Сеня, я остаюсь в белье, но, слава адгезийцам, пижамка не забыла меня, прибежала со стороны махины-радиостанции и стоит выжидательно. Рядом − спортивные штаны и толстовка. Ну − тряпки теперь мои друзья навеки! Стоят и похожи на одетых неведимок. Я напялила всё – мало ли… Я выходила под осторожные хлопки щупалец – чего-то они напугались…
Глава девятая. В избушке барона
Я, увы, проиграла. Но поэт Блок хороший без вопросов. Наверное, он не раз бывал в Адгезии, раз даже жужжащих чпол описал. «Миры летят. Года летят.», − супер мощно, почти как у Замая.
Адгезийцы сами врут, убеждала я сама себя, хоть и тыкают меня в правду. Они первые шулеры, они комики и первые на деревне приколисты. Вот я не я буду, если Инна Иннокентьевна на днях коньки не откинет, собаку они себе захапали заранее. Эти стражники-мужики выгуливают собачек, которые не подходят в церберы и остались после смерти хозяек. Мохнатого пса тёти Инны посадили уже где надо на цепь, я не сомневаюсь даже. Адгезия – за забором жизни. Это фантастика. Я уеду отсюда и всё закончится. Папа уехал и всё. Мне просто надо проснуться, проснуться…
Я очутилась перед открытой калиткой задрипезного полусгнившего облупленного заборчика. За спиной – тропинка, поселковая улица, песчаная дорога, передо мной – канавка, дальше справа и слева – кудрявый орешник, явно стриженый. Даже не подумаю заходить в калитку. Я ж не глупая девочка, упавшая в кроличью нору, то есть в колодец.
С двух сторон меня взяли возникшие из ниоткуда мужики-стражники, я оторвала ноги от земли. Не собираюсь шагать за калитку. Ну её! Но меня перенесли – я дёргала ногами, пытаясь вырваться, убежать по воздуху. Узкий проём калитки без труда «впустил» нашу шеренгу из двух адгезийских стражников и меня, висящую, дрыгающую ногами, сопротивляющуюся из последних хлебцевых сил.
Я оказалась на большом участке, передо мной стояла изба, точнее домик, дощатый домик, какие-то грядки – плохо было видно в ночном свете. Впрочем, свет шёл из домика, небо же убивало своей чернотой, я посмотрела под ноги – кроссовки по прежнему радовали белизной и удобством, но почему принц назвал их белыми тапочками?.. Ещё раз рискнула посмотреть на небо в надежде хотя бы на одну звездочку – сине-чёрно, но вроде как ультрамарин появился в оттенке. Справа послышалось знакомое рычание и такой узнаваемый вводящий в ступор лай. Я и не сомневалась, что это цербер Инны Иннокентьевны
Втроём мы шли по широкой гранитной дорожке.
− Дальше сама, − сказал мне тот, что огненный, то есть оранж, но здесь он казался красным. Фиолетовый же молчал, здесь он виделся иссиня-чёрным, как небо.
Я поднялась по скрипящим ступеням и очутилась в комнате, которую в рассказе Чехова, где героиня была стрекозой, называли террасой.
На террасе – дощатый пол, огромный овальный стол, какие-то тряпочки, прихваточки, подставочки, досочки, чашечки и цветы в горшках у окон. Окна – с трёх сторон, почти как в бассейне. Над столом висела лампочка в элементарном абажуре – вокруг неё вилась мошкара, ударялась в стекло и падала на стол. На столе, покрытом какой-то цветастенькой клеёнкой с до боли знакомыми нарисованными костлявыми щупальцами валялись обожженные корчащиеся в муках мошки, мотыльки, в том числе и гигантские мотыльки, которые тюкались весь ремонт и в мои окна. И даже одна чпола передразнивала умирающих «коллег» и, казалось, подмигивала мне, как старой знакомой. За столом, в его изголовье, сидел, как вы уже догадались, человек. Но не тот, который в ботфортах, а сухонький – на этот раз серьёзный и молчаливый. За ним пыхала синим газовым огнём плита. Включены были все четыре конфорки. Это же моя плита! Та, которую ещё надо подключать, вызвать газовщиков, просить их сделать на трубе вентиль вместо стопорящей гайки… Плита, которую мы с мамой ни разу не включили, как бабушка умерла.
− В книге вычитала про стопорящую гайку? – спокойно спросил сухонький и закурил трубку огнивом. Я уставилась на огниво, я первый раз видела его наяву, а не в фильме, ну… почти наяву.
− Нам уйти, господин барон? – Всё-таки стражники не бросили меня у двери, а бесшумно, как тени, сопровождали.
− Нет. Строптивая девочка. Убежит.
− Но она в тапках наших.
− Пусть. Они ей ещё пригодятся. А вы сторожите. Принцесса у нас всем принцессам даст прикурить, − и сухонький пыхнул трубкой, как старый моряк.
− От вас убежишь, как же, − я отодвинула какой-то удивительно лёгкий стул и села за стол, уставившись в насекомых и «бегающую» между ними чполу.
− Нравится чполка-то?
− В смысле?
− Мальвина! Ты со смыслами реально достала, − сказал «господин барон». – То «хор», то «ок», но «смыслы» просто невыносимы!
− А символы выносимы? – взбесилась я: что он пристаёт-то не по делу?! Как стишатами своими подгружать так что мозг взорвался, так ничего.
− Предъявы твои, Мальва, просто смешны, – сказал сухонький барон. – Лучше бы книжки, что ли, чаще читала, а не передразнивала тех, кто в палате пересказывает их содержание.
− Я так понимаю, вы на это больше всего обиделись? На дочку тренера, а она по блату с нами в лагеря ездила!
− Ерунду не болтай. Обижаться – не про нас, а про вас.
− Вы на памятник совсем не похожи, − сказала я. Мне не хотелось вспоминать Гневковскую здесь, в этом странном и спокойном месте.
− От памятника никто похожести не требует, когда высечен он по парадному портрету. Портрет был – ложь. Как у вас говорят – «фотошоп»?
− Вообще-то да.
Перед бароном лежал на столе лист. Я не сразу, но узнала – страница книги, которую я в детстве выдрала.
− Нехорошо книжки портить.
− Я была ребёнком.
− И что? Раз ребёнок можно портить? Нет, девочка, нельзя.
− А я, между прочим, испугалась страшной картинки. Не знаете к чему привязаться, так и скажите. Вы из меня сделали монстра какого-то.
− Ничего не делали. Напомнили. Проучили. Пошутили. Ради твоей же пользы, − дым всё больше обволакивал моего предка.
− Просто вам хочется поглумиться.
− Спорить не буду. Человек должен до всего дойти сам, не правда ли? – вот они всегда так, адгезийцы, говорят о своём, и по радио тоже, и когда Сенин отец приезжал…
− Ага: дойти сам. Мне ваши Горбуши, Неживые и Полеи всё время теперь мерещатся. Постоянно мерещатся. Клею обои, а они – вроде как на диване рядом сидят. И молчат…
− Дальше – хуже будет. На смертном одре и то не забудешь.
Видно у меня стал такой испуганный вид, что барон поспешил оправдаться:
− Ну тебе ж было сказано: мы – катализатор.
− Привязались.
− Ты прекрасно понимаешь, почему; мы желаем тебе исключительно добра. – Он уговаривал терпеливо, объяснял так спокойно, безэмоционально абсолютно, бубнил.
− Вы тут живёте? – я решила как та сумасшедшая девочка из кроличьей норы вести светскую беседу.
− Обитаем. Просто хотелось увидеть тебя напоследок. Хочешь вернуться?
− Вы всегда, когда хотите, тогда меня закидываете обратно. Вы сон, − убеждала я больше саму себя – плита-то грела немилосердно, на террасе становилось жарко.
− А ещё мы − за забором, как ты изволила выразиться. Ну что ж…
Мошкара всё летела и летела на абажур. Обожженные насекомые всё прибавлялась, куча копошилась, насекомые погибали в муках. Подмигивающая глумливая чпола пропала, может она оказалась погребена под всё падающими и падающими как дождь, как град, мошками и комарами-неудачниками. Но чпола – волшебна, а значит везунчик, она не может погибнуть так бесславно. Только я подумала об этом и чпола выпрыгнула из живой кучи насекомовидных тел, вылетела как пуля, подпрыгнула как мячик. И захихикала, пролетев мимо, специально коснувшись щеки – они так и в квартире делали, чем раздражали меня, выбешивали. Я вдруг вспомнила мелкого пацана из лагеря. Он так выл, когда сверчка, обитающего под душевой кабиной, парализовали пшикалкой от комаров. Сверчок реально мешал спать стрекотанием, мы и попросили у пацанчика пшикалку. Сейчас бы у того пацана случился припадок от жалости к бабочкам, летящим к свету.
− Ну что ж, Мальвина, прощай!
− Почему «прощай»? − я сказала из вежливости, я очень обрадовалась, что больше никогда меня не станут тащить в эту странную избушку. – Я на вас зла не держу.
− Ну ещё бы. Ты бы спросила, держу ли я на тебя зло.
− А вы держите?
− А ты как думаешь? – барон поднял на меня глаза и стрельнул сквозь табачный дым как лазером в звёздных войнах. Во всяком случае, мне почему-то стало жутко стыдно. Я чувствовала, как заливалась краской − вся кровь, по-моему, притекла к лицу, все семь литров!
− Помни: Адгезия всегда с тобой, она всё видит. Мы не отпустим тебя никогда! Помни это!
− Извините, − я положила руку на сердце. – Я вас очень уважаю. И вырвала я страницу не с вами, а с тем другим, с чёртом лысым в сапогах. Он своим следом пол весь портит.
Барон кивнул: мол, знаю, зачем это сотрясание воздуха? Я продолжила:
− Вы – другой мир, я не утверждаю, что вас нет. Вы есть – это факт. Но вы не всесильны! Вы больше сон, больше мысль, если хотите. Вы из слов, хоть и мучаете меня, бьёте, но с помощью кого-то или чего-то другого: тряпок и не тряпок и людей-нелюдей.
− То есть мешок на голову – это не мы?
− А чполы? Они как камерыувас. Вы же впускаете их в комнату, когда захотите?
− Совсем нет, но спорить не стану.
− Наслали Зину – шваброй меня побила, дальше утопить хотела, дальше вены резала, но шрамов нет, потому что – сон, − я гордо выставила вперёд запястья и обомлела: на запястьях под жёлтым светом абажура темнели уродливые шрамы…
− Ты забыла о море и своём возлюбленном, − пыхнул трубкой сухонький.
− Он не мой возлюбленный, − обозлилась я, и сердце заныло от обиды.
− Ну – как знаешь: не твой, так не твой.
Я перепугалась, хотела признаться, крикнуть, что Кирилл – мой, просто от злости я так сказала, но барон жестом остановил меня.
− Хотелось на тебя посмотреть, Мальвина, просто посмотреть. А теперь возвращайся в квартиру сама. Что-то не хочется тебя переносить.
− Вы говорите как пылесос-начальник, вы командуете!− я попыталась всё свести к шутке.
Он перестал попыхивать трубкой, резко встал из-за стола – корчащиеся насекомые покатились по клеёнке в неведомые дали, в бездну пространства под столом. Барон встал лицом к плите, ко мне получалось что боком – синие языки из конфорок стали удлиняться, окутывать его, полумёртвые насекомые оказывается никуда не упали − как намагниченные выстроились в такой язык или хвост, повисший в воздухе. Вот чёрный след из насекомых разного калибра потянулся к барону. Силуэт барона окутался синим пламенем и дымкой из насекомых, мне казалось, что на спине у барона – крыло, такое малярное крыло-пластмасска, но чёрное, а не белое. Крыло хлопало. Барон весь был в чёрной одежде, он таял на глазах, как чернокнижник из любимого маминого фильма. Он растворился или сгорел.
Всё было по-прежнему: за мной – два молчаливых стражника – огненный и тёмный, передо мной − стол, покрытый клеёнкой. Ни одного насекомого не падало, несколько особей кружились вокруг лампы и всё.
Сейчас меня сожрут эти двое. Я просто дико боялась и тряслась.
− Нет. Мы не едим детей, – сказал огненный. – Барон оказал тебе такую любезность, поговорил, показался, а ты…
− Ты даже не поняла, какой чести удостоена! – закричал вдруг молчаливый. – Ты – абсолютно неблагодарная, злая, недалёкая! Ты… ты… − и тёмный стражник заплакал.
Я тоже разревелась. Стало как-то обидно, что такой короткий разговор, что я сказала совсем не то, что хотела.
− Но ведь Адгезия не всемогуща. Я сказала правду! Я сказала то, что думаю!
− Никому не нужна здесь твоя правда, – вздохнул огненный и развёл руки. – Барон хотел пообщаться, чаю испить, а не слышать правду. Тут и без тебя правды навалом. Вся Адгезия на уровне субсистенции, а ещё ты со своими избитыми забитыми хрестоматиями-истинами-штамповками. Как же ты ошибаешься, как ошибаешься. Но! Ничего не попишешь! В путь! Хоть нас и не ждут великие дела, но путь на этот раз окажется долгим. Если барон сгорел, ничего хорошего ждать не приходится.
− Очень долгим, − эхом вторил тёмный.
− В смысле? Вы меня на оцинковку, что ли, оттащите?
− Да домой мы тебя проводим, чудище. Что за глупые создания эти девочки. Сколько не говори: «в смысле» да «в смысле», ума-то не прибавится. Позоришь предка. Я бы на его месте ещё раньше выпилился из разговора, вот что значит титул, происхождение и воспитание – терпел тебя столько…
− Ну хор. Пошли тогда скорее. В квартире много дел после главных дел: надо доводить до ума, прибивать полки… − я ещё долго болтала о ремонте, мне было обидно, что так получилось, что я неуважительно отнеслась к барону. А ведь он так нас с Сеней выручил, когда разъярённый Сенин отец притащился в квартиру. Что я стала сейчас высказывать-то ему? Зачем?
На дворе поскуливал лохматый пёс Инны Иннокентьевны, он снова не узнал меня, не рванул как обыкновенно он сигал из подъезда, он скулил и, казалось, жаловался.
− Потерпи, друг, скоро уже, скоро! – сказал псу огненный, и пёс сразу замолчал.
Мы шли по поселковой улице. Песок скрипел под кроссовками. Как великаны вверх убегали редкие фонари. Вокруг – коттеджи, старые домишки нигде больше не виднелись.
− Мы идём аккурат по приискам. Ты же знаешь, что здесь при Иване Грозном были разработаны первые месторождения? – сказал молчаливый.
− То есть, мы у Арсентия на даче?
− Не совсем. Мы «под», – показал большой палец вниз молчаливый.
− Не поняла, − чуть не сказала « в смысле».
− Первые рудники, медные рудники. Нам до поверхности долго, всё вверх и вверх, ты забыла, что живёшь в городе метростроевцев и буровых установок? Ну так барон решил напомнить!
Дорога действительно пошла чуть круче, такой лёгкий тягунок, они всё держали меня под руки. После поняла зачем. С каждой стометровкой подъём становился всё круче, у меня не было больше никакого желания болтать с здоровыми мужиками, странными нелюдьми и галатными ковалерами. Наверное, они здесь у барона отвечают за Церберов и прочую живность. Я шла и шла, песок всё чаще попадал в кроссовки. Мы как на параде шеренга солдат…
Напоминание 10. Вши
− Вы как на параде шеренга сапог! – сказала я Лобановой Кате, всё-таки с Катей я почти дружила, Люба до сих пор со мной в натянутых отношениях.
− Бред, Мальва! Мы просто поиграли в бояре мы к вам пришли.
− Вы дебилы.
− Зачем ты оскорбляешь, Мальвина? – подала голос и Лобанова Люба.
Мы заправляли кровати в номере. Нас жило четверо. Я с Улыбиной и сёстры Лобановы.
− Люба! Ты старше меня, а играешь в детские игры. Ещё в ручеёк поиграй.
− Мы и в «ручеёк» играли. Это же был квест.
В тот год − кажется, что давно, а на самом деле всего-то год назад − в июле мы поехали в Туапсе. Гостиница стояла у самого моря. Бассейна никакого не было и в помине. Но был огромный закрытый пляж. Нам оградили территорию на море – сто метров в ширину, сто – в длину, привязали ко дну буи, и получилась вполне себе вода: плавай хоть целый день.
Всё началось с дельфинов. Придя на утреннюю треню, мы увидели дельфинов, плывущих скачками по нашему импровизированному «бассейну». Мы так завизжали от радости, что наши пацаны заткнули уши. По иронии судьбы по пляжу бегали туда-сюда, увязая в песке, волейболисты. Это просто какая-то несправедливая карма. Асколова уже с ними перезнакомилась. Асколова вообще постоянно верховодила, в том числе и в туапсинском лагере. Она поехала с нами в последний, наш лысый тренер Гнев ей позвонил – оставались места, кто-то отказался в последний момент – это ж такие как я всё по лагерям, а другие ещё и на курорты с родителями выезжают жир протопить – ну пусть не жир, пусть мускулы…
Асколова сразу, с первого дня проводила больше времени с волейболистками. Ну и косяком фотки в соцсеть, ну – вы понимаете, что не с нами, чтобы все её френды-уроды, пролистывающие ленту, считали, что она в волейбольном лагере. Справедливости ради она давно была не наша. Она так на меня смотрела: я, мол, прекрасно помню, как меньше месяца назад я подставила тебя и весь лагерь, это ты, ты!, разрешила Наде гулять ночью с парнем. Я обрадовалась, когда они с Белокоптильской не стали селиться с нами. Лучше жить с Лобановыми, чем с этими сплетницами. Сейчас я жалела, что подралась с ними тогда, давным-давно.
Асколова тут же сдружилась с либеро, росточком с Асколову, до плеча даже нашим девочкам не доставала, я уж молчу про команду, но она считалась гениальным игроком, играла уже в молодёжке в суперфинале шести. Мне это ни о чём не говорило, но Асколова закатывала мечтательно глаза, когда сообщала о суперфинале шести. Чтобы не плодить сплетни я общалась с Асколовой по инерции, просто по старой памяти, из последних невозмутимых сил делала вид, что я ни на что не обижаюсь и не думала обижаться. Но я готовила подлянку. Я ещё не знала, какая будет подлянка, но чувствовала – будет, я дождусь подходящего момента.
Мы жили на последнем девятом этаже прибрежной гостиницы – ещё никогда мы не жили вот прям на берегу моря, волейболисты обитали на третьем. Целый день по лестнице туда-сюда сновали наши девочки и девочки-волейболистки. Можно так сказать – наши группы поменялись парнями. Наши девочки (даже Улыбина!) общались с волейболистами, а их девочки с нашими пацанами. И даже Сеня общался там с одной. Но мне было всё равно, осенью мне надо было штурмовать мастера. Ему тоже. Но он вообще не парился, тренился как всегда. Надо признать, что мальчики-волейболисты были умнее наших. Асколова, снова закатывая глаза, объясняла, что это из-за того, что надо чувствовать площадку, молниеносно принимать решения и ещё что-то про математику.
Это предыстория. И вот пошли все на площадку, где проводили мероприятия, на какие-то игрища, студенческий фестиваль на празднике бесячего Нептуна. Там играли в глупые игры «а-ля глупые пионеры». Все радовались, а я тупо сидела и отдыхала и смотрела на всех.
Самое смешное, что именно на площадке, на дискаче после разных пионерских квестов и нептунов наши девочки подцепили вши. Кто-то из волейболистов был вшивый, из пацанов или из девочек, тут уже не определишь.
Первой вши заметила Катя Лобанова спустя три дня после праздника. У неё всегда была короткая стрижка и она просто сняла с волос что-то белое. Мы загуглили картинку – это явно было насекомье яйцо – оказалось, что это гнида!
Я тут же (торжествуя!) пошла к Асколовой с «пренеприятным известием» (так выразился Сеня). Асколова запаниковала, она сказала, что мылась вчера под душем, а по полу бежали какие-то жуки. В общем, все ринулись чесать и мыть свои бошки, но никто не бросил своих волейбольных пацанов, никто не верил, что это они.
− Что ты злишься, Мальва? – возражала Лобанова.
− Вам всё равно, − орала я на Лобановых. – Вы в Киргизию не едите!
− Да что ж мы раненые, всё лето, как ты, по лагерям пахать! Мы и в бассике поплаваем в нашем, и дома отдохнём.
− Мне мастера, Люба, выполнять! Вот и пашу. (Я боялась, что подумают, что я из-за Кири еду, а я ехала именно из-за него, оттягащая тем самым нехилой суммой на поездку маму.) А как мне справку в поликлинике брать о контактах? Там же врач голову смотрит!
− Ерунда. Вы деньги в Киргизии платите. Да не нервничай ты. Дай я гляну – у тебя нет вшей, ты же не танцевала.
− Вши перескакивают вообще-то – орала я. – Понимаешь, Люб, я вся чешусь. Мне кажется, что я вся во вшах этих вонючих.
− Не паникуй, Мальва.
Я видела, как рада Люба, что я бешусь. Но мне было всё равно. Мне нужна была Киргизия. Я не собиралась заражаться вшами.
− Я всё расскажу тренерам. Идите ко врачу, пусть там лекарства, растворы. – Я радовалась, что подставлю Асколову, отомщу, при этом создам вид честной медички и борца за стерильность.
− Успокойся Мальва! – в палату вошла Асколова (кажется, она подслушивала под дверью). – Через два дня отлёт. – Ну успокойся. Не заразишься ты.
− Нет, − сказала я. – Вы за два дня всё тут перезаражаете, всю гостиницу. Я пойду и сообщу.
− Стучишь? – сказала Асколова презрительно. Ну-ну. Стучи. А я не стала на тебя стучать, когда Надя пропала. Всё же из-за тебя! Она ж из-за тебя пропала.
Лучше бы Асколова этого не говорила. Вы вообще чувствуете масштаб подлости и переворачивания всего с ног на голову. И – самое смешное – кажется, она действительно так считала, верила, что Надя пропала из-за меня!
Я просто потеряла дар речи, стала заикаться и оправдываться от возмущения, чего раньше никогда себе не позволяла. Оправдаться – значит согласиться с обвинением. Всегда надо молчать, быть выше подстав и возмутительных обвинений!
− Я… я… я лежала и отдыхала, ты подослала Белокоптильскую. Я оказала любезность, что пошла, а теперь ты меня крайней сделала. Ну-ну. Поэтому у тебя в плавании ничего и не вышло, там нельзя лицемерить и врать. А в волейболе своём ты на своём месте: там все обманывают и в котёл скидывают.
− Да-да, в котёл скидывают. Зато не топят разных Горбуш, не придумывают романтические истории, чтобы на пологе собачку нарисовали и не издеваются над Неживыми насчёт отношений.
− Болтай-болтай, − я отдувалась и хрипела, меня трясло. – Я всё равно расскажу. После июня дала себе слово: всегда всё рассказывать тренерам, если опасность. А то после ещё я крайней окажусь как с Надей, что не сообщила.
− Мальва! Пожалуйста! – Улыбина встала передо мной на колени. – Не надо жаловаться.
Дело в том, что Улыбина тоже была со вшами.
− Отстань, Наташ! – я брезгливо отпихнула её ногой. – Знаю я вас всех. Все завшивели из-за своих волейболистов, гуляли с ними, хвостом крутили, глазки строили. Шлюхи! Вы шлялись, я потом крайней окажусь – я ж тренерам не сообщила, так Асколова ещё первая меня обвинит и скажет, что это я всех перезаражала, я ж к тому времени, когда всё выяснится, завшивлю вместе с вами!
− Не факт, Мальва, − тихо сказала Улыбина.
− Да откуда ты-то знаешь?
− У меня вши в третий раз, − ещё тише сказала Улыбина.
Я не стала слушать историю Улыбиной. Хорошо, что все подумали, что меня трясло от брезгливости, а не от возмущения, что Асколова так наглела со мной. Да как она смела. Гниль! Кудрявая гниль. Хоть бы ей её кудри отчикали, хоть бы её наголо. Будет с тренером в одной команде лысых.
И я пошла в тренерскую, и всё рассказала. Мне было на всех наплевать. Я делала вид, что мне нужно было быть в Киргизии, что я не собираюсь лечиться от вшей и стричься коротко – у меня плечи широкие и волосы мне обязательны. Я сыграла на этом. На самом деле, цель моя одна – Асколова! Вслух я ещё сказала перед тем как хлопнуть дверью: мол, я не могу, как Катя Лобанова, мне не идёт такая стрижка от слова «совсем».
Прибежали врачи, медсёстры. Всех проверили. Три часа копались в наших волосах! Отсортировали вшивых. Все пацаны согласились побриться под ноль – наш тренер Гнев всегда возил с собой машинку, он пацанов и остриг. Все девочки согласились на «покороче». Их отселили в отдельный «бокс» − на самом деле на последний двенадцатый этаж, а нас – меня и Алису-водомерку, поселили вместе в малюсенький номер на пятом этаже и я вздохнула спокойно. Последние два дня я тренилась с Алисой-водомеркой среди пацанов. Все, и наши, и волейболисты, резко стали носить бейсболки и банданы, а мы с Пузырём прикалывалась над ними. Пузырь – гений постоянства, оставался пузыристым, невысоким, на него никто не смотрел из девчонок. Он всё спрашивал у пацанов, почему они плавают не синхронно, не шеренгой, ну не так как солдаты – они ж бритые.
Алиса никогда меня не любила, но в эти два дня мы сдружились – мы единственные оказались не заражённые, и дружим до сих пор.
Самое позорище началось в аэропорту. Всех вшивых девочек заставили надеть не свои головные, а раздали пропитанные какой-то фигнёй косынки, в самолёте посадили их назад, рядом с туалетом, бортпроводник обслуживал их в перчатках − тогда это казалось диким.
Нетрудно догадаться, что после этого случая со мной в бассейне никто, кроме Улыбиной и Алисы, не общался от слова «вообще» – отличный повод полного игнора. Все злорадствовали, когда я не выполнила норматив мастера, зло и торжествующе зыркали на меня – типа карма, ответочка прилетела. И пацаны, и девчонки. Я не могу сказать, что тренеры стали ко мне относиться лучше. Им тоже молчание было на руку. Так бы по-тихому все вернулись, а пришлось шухер развести на всю гостиницу, а гостиница обязана была сообщить в аэропорт и другие организации, тоже им наверное лениво было, наверное, на них наложили штраф. Кто-то из наших тренеров сказал: хорошо, что смена без бассейна, а то пришлось бы за чистку и дезинфекцию платить немеряно…