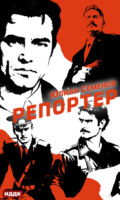Юлиан Семенов
Бомба для председателя
Он вдруг заторопился и почувствовал, как внутри его рождается страх. Он был неопределенным, этот страх. Дорнброк научился ничего не приказывать и лишь в редких случаях подписывал документы, да и то единственно те, которые носили общий характер: все конкретности уточняли затем эксперты и советники. Они детально разрабатывали и проводили в жизнь ту общую концепцию, которая заключалась в обтекаемых формулировках отправных положений.
«Я не имел права посылать его на Восток, – понял Дорнброк. – Это работа для Бауэра или Айсмана, а я хотел насильно провести Ганса сквозь горькую тяжесть ответственности за будущее. В этом я виноват перед мальчиком».
Дорнброк вышел, почти выбежал из дому, долго искал такси, потом подробно объяснял шоферу, куда его следует отвезти – он запомнил дом Люса, где беседовал с сыном. Улицы еще были пустынны, хотя рассвет уже сделал город светло-дымчатым и солнце угадывалось за низким, в тяжелых тучах небом.
Задыхаясь, он пришел к тому дому, где два часа назад оставил Ганса и Бауэра. Дорнброк нажал кнопку звонка, но ему никто не ответил. Он долго нажимал кнопку звонка, и, чем дольше он нажимал эту маленькую красную безответную кнопку, тем страшнее становилось ему, и он увидел себя со стороны – старика в помятом пиджаке и в стоптанных башмаках на пустынной улице, и ему стало мучительно жаль себя, и он впервые за последние шестьдесят лет заплакал…
«ХМ… ХМ… РАНЬШЕ ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ „БЛИЗИТСЯ РАЗВЯЗКА“»
1
– Доброе утро, господин прокурор… Говорит Гельтофф. К вам едет мой эксперт Гаушенбах в качестве свидетеля. Его мнение по баллистической экспертизе не совпадает с заключением других экспертов. Я посоветовал ему поехать к вам потому, что я, увы, далек от науки…
– Практика – это тоже наука, майор.
– Вы мне льстите, господин прокурор.
– Вы же не представитель фирмы по продаже авторефрижераторов, чтобы мне льстить вам. Только пусть он не приезжает ко мне в десять часов – я буду занят в это время.
– В десять он его ждет, – сказал Холтофф, опустив трубку.
Айсман улыбнулся:
– Как только Штирлиц войдет к нему, твои люди входят следом и требуют у Штирлица документы: он ушел вчера в восточный сектор по советскому паспорту – теперь это беспроигрышная партия. Повод для ареста: он направляет следствие по ложному руслу. Он партнер Кочева в игре КГБ против нашей республики. Сразу же после того как твои люди задержат Штирлица, в кабинет войдут ребята из полиции. Потом появишься ты и дашь показания, что Штирлиц приходил к тебе как старый друг по партии и по работе в СД. Если же тебя зацепят на изменении фамилии – так, вероятно, и случится, – тебе будет выписан чек на десять тысяч марок. Уйдешь в отставку, не дожидаясь решения наших ублюдков. Признаешь, как он приходил к тебе, расскажешь о его шантаже и отойдешь в сторону. Скажешь, что он просил тебя разработать версию убийства Кочева и ты якобы согласился с этим, чтобы затащить его еще глубже в трясину их грязной игры… Скажи, что это ты произвел выстрел из бесшумного пистолета в ночь на двадцать второе по люку канализации. Обязательно подчеркни, что ты произвел этот выстрел в его присутствии. Вы поехали ночью на Генекштрассе, и ты произвел выстрел через дверь «мерседеса» именно по люку канализации. Запомни фамилию человека, у которого он арендовал такси: Йоханн Грос. Сименштадт, пять. Такси брали по паспорту на имя Верцбаха.
– Грос. Сименштадт, пять. Верцбах, – тихо повторил Холтофф.
– Все хорошо, – сказал Шорнбах, позвонив к Бергу, – если позволите, я заеду к вам сегодня в шесть часов по одному делу…
– Спасибо. Я жду вас.
…В двенадцать часов Айсман объявил тревогу по всем линиям связных: Штирлиц так и не появился у Берга, а прокурор сообщил прессе, что он берет назад свое заявление об отставке в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами»…
В маленьком помятом «фольксвагене» сидел молоденький паренек с длинными подвитыми волосами и лениво обнимал девушку. Было темно: улица, на которой стоял особняк Гельтоффа, плохо освещалась. Курт, связник Айсмана, оставил свой БМВ-2200 чуть поодаль и дважды прошелся мимо «фольксвагена». В окне кабинета Гельтоффа горел свет. Курт обошел особняк, обернулся и, убедившись, что теперь он не виден парочке из «фольксвагена», ловко отпер ворота отмычкой. Он шел по саду, ощущая холод листьев; капли росы оставались у него на лице. Заглянул в кабинет: Гельтофф лежал на тахте. Окно было приоткрыто. Курт открыл его чуть пошире и, подтянувшись – окно было низкое, – влез в кабинет.
– Я все сделаю сам, – негромко сказал Гельтофф
Шорнбах и два его сотрудника внимательно слушали голос Гельтоффа. Аппаратура, установленная в «фольксвагене», который теперь переместился к «мерседесу» Курта, позволяла слышать разговор с Гельтоффом и передавать его в центр с расстояния в сто метров.
– Я сам, – повторил Гельтофф. – Или вы хотите, чтобы это был приговор? Расстрел?
– Этого мы не хотим. Более того, мы принесли тебе чек. Вот. Как и обещал Айсман. На десять тысяч марок. Напиши, что ты оставляешь эти деньги семье. Остальные они получат с твоего счета, когда войдут в наследство…
– Штирлиц так и не появился в городе?
– Нет. Скажи правду: ты ничего не сказал ему?
– Я же видел – вы следили за каждым моим шагом.
– Если ты оставил в каком-нибудь тайнике имя таксиста, то за это ответят дети твоих детей…
– Какого таксиста?
– Гроса. У которого «мерседес»…
– Какой «мерседес»?
– Ты что? Все забыл? Что с тобой?
– А что бывает с человеком, который должен убить себя? «Мерседесы», айсманы, дорнброки, гитлеры, кизингеры – будьте вы все прокляты… Что я должен написать за эти десять тысяч?
Шорнбах шепнул в микрофон:
– Лейтенант Ловер, окружайте дом. Берите их. Алло, «третий», продолжайте записывать разговор… Лейтенант, если они станут убегать, стреляйте по ногам, они нам нужны живыми…
Когда лейтенант Ловер прыгнул в комнату, Курт резко обернулся и, выхватив пистолет, выстрелил в лейтенанта. Потом он выстрелил три раза, пуля за пулей, в грудь Гельтоффа и после этого в люстру.
Он бежал через сад и не чувствовал, как листья били его по лицу, и не чувствовал холода росы, потому что бежал он, низко согнувшись. Это и стоило ему жизни: сержант Ухер, помощник убитого Ловера, выстрелил по ногам, но пуля вошла в позвоночник, и Курт упал, переломившись пополам.
Когда Берг приехал к Гросу, он нашел в доме лишь полуслепую старуху, его дальнюю родственницу, которая ничего не знала, поскольку жила в темной комнате, совершенно изолированно от двоюродного брата…
«Мерседес» с тщательно заваренным пулевым отверстием на задней правой дверце и с остатками следов крови на полу был обнаружен в гараже.
Опрос служащих аэропорта позволил Бергу сделать вывод, что Грос вылетел в Италию. Через три часа Интерпол сообщил ему, что Грос обнаружен и взят под наблюдение в Неаполе, на вилле германского коммерсанта Проце, продававшего «мерседесы» восточноафриканским странам.
Получив все эти данные, Берг попросил секретаршу заказать билет на первый же рейс в Рим, но оказалось, что все билеты на самолет «Пан Америкэн» уже проданы; следующий рейс, который выполняла «Айр Индиа», был лишь вечером. Секретарша заказала одно место на имя Берга и отправила в Темпельгоф нарочного.
Спрятав билет в карман, Берг ощутил тяжелую, гнетущую усталость. Он заехал домой, переоделся, спустился в снэк-бар и выпил кофе с ломтиком сыра.
«Самое трудное начнется, когда я привезу сюда Гроса, – подумал он, расплачиваясь за кофе. – Тут включатся большие силы, если только они не прикончат его до моего приезда. Они, вероятно, рассчитывают, что он сам примет какую-нибудь гадость, когда поймет, что оказался в кольце. Поэтому брать его будем ночью, без стука в дверь. Но почему-то я думаю, что они пока не станут его убирать. И потом: я же сказал секретарше, что для всех я лег на два дня в госпиталь по поводу обострения язвы».
О том, что его телефон – и в прокуратуре и дома – прослушивается, Берг не подумал. Он считал, что это может быть сделано лишь с санкции отдела юстиции западноберлинского сената, который – Берг был убежден – сейчас на это не пойдет; он недоучел лишь того, что телефонная сеть города обслуживалась двумя компаниями, в одной из которых концерн Дорнброка обладал контрольным пакетом акций. («Все революции, – говорил Дорнброк, – проваливались или побеждали в зависимости от того, удавалось ли бунтовщикам овладеть средствами связи»).
«Да, надо же заехать к Марии, – подумал Берг. – Странно, почему она просила позвонить именно сегодня?»
Он достал записную книжку и подошел к телефону, стоявшему на столике, возле выхода из снэк-бара.
– Здравствуй, Мария, это говорит старая жирафа…
– Бог мой, здравствуй! Я решила, что мой дом уже совсем перестал быть твоим!
– Стоило не позвонить каких-то десять лет, и уже такие страшные выводы… Если бы ты сейчас протерла пару морковочек, я бы к тебе заехал.
– Я протру тебе не только пару морковок, но и успею сделать твою свеклу.
– Тогда я пренебрегу метро и отправлюсь на такси.
Он ехал по улицам, и перед ним то и дело возникало лицо жены. Он видел ее улыбающейся, тихой и нежной. Она всегда была такой, даже когда он беспробудно пил. Мария была ее подругой.
Муж Марии Карл был его товарищем по университету. Он вступил в НСДАП в 1939 году. Они тогда собрались у Карла: Ильзе, Мария, Берг и Ваггер, который поселился в Гонконге и, приняв английское подданство, спокойно приезжал в рейх как юрисконсульт музейного ведомства доминионов и колоний. Ваггер уехал из Германии в тридцать третьем году и смотрел на них теперь с некоторой жалостью. Он обычно привозил продуктовые подарки, которые унижали Берга щедростью.
Мария поставила пластинку, но никто не танцевал. Все молча сидели за столом и не смотрели друг на друга, потому что Карл пригласил их на эту вечеринку, сказав по телефону:
– Это по случаю важного события в моей жизни… В партию ведь вступают только один раз…
И вот они сидели за столом, не поднимая глаз. Берг еще на улице выговорил Ильзе, когда она купила на последние гроши три красные гвоздики. Жена пожала плечами: «Неудобно к друзьям идти без подарка».
Молчание затянулось. Берг налил себе «Эргешютце» и выпил, не дожидаясь, пока все разольют себе по второй.
– Георг простужен, – по обычной своей манере улыбчиво пояснила Ильзе, – ему необходимо как следует прогреть себя.
– Да, я простужен… Я весь заледенел изнутри… – сказал Берг, – но сегодняшнее торжество меня отогреет. Мне уже стало теплей! Даже краска заливает щеки от внутреннего тепла!
– Сейчас у нас будет пирог с рыбой, – сказала Мария.
– Вам уже прибавили карточек? – спросил Берг. – Или увеличили содержание? Членам НСДАП надо быть сильными…
За столом воцарилась гнетущая тишина…
– Прибавили карточек, – сказал Карл. – И добавили к окладу. Ты прав. Надо же подкармливать членов движения, чтобы мы держали в руках таких, как ты, слюнявых интеллигентов. Ты же знаешь, что я уже давно лелеял мечту примкнуть к движению. Еще когда мы с тобой посещали собрания социал-демократов и выходили на демонстрации под красными знаменами. И вот наконец моя мечта осуществилась! А разве ты не мечтаешь примкнуть к нам? Разве тебя не воодушевляют великие идеи фюрера?!
– Давайте потанцуем, – торопливо сказала Ильзе, – какая прекрасная музыка! Это английская пластинка? Снова нас балует добрый Ваггер?
– Мне ненавистны идеи нашей сволочи, и, если ты теперь донесешь на меня, тебе прибавят еще пару карточек на два фунта рыбы в неделю, – сказал Берг.
– Ты дурак, – заметил Ваггер, – раньше этого я за тобой не замечал, Берг.
– Значит, и ты эмигрировал по заданию Гиммлера? – удивился Берг. – А я думал, ты действительно не можешь жить в этом вонючем болоте. Ты ведь разведчик Ваггер? Напиши и ты донос, а?
– Ты очень смелый человек, Георг, – сказал Карл. – Ты так грозно обличаешь нацизм за столом! Ты избрал себе самый легкий путь – пить, оскорблять друзей и сострадать самому себе. Только живем мы не в вонючем болоте а в Германии. Какой бы она сейчас ни была, она останется Германией, а не вонючим болотом.
– Если бы я был убежден, что моя граната взорвет Гитлера, я бы привязал гранату к груди, – сказал Берг яростно. – Ясно тебе?! Скажи, что ты мне не веришь, ну скажи!
– Я верю тебе, только где ты достанешь гранату?
– Сам сделаю.
– Из чего? Все вещества, могущие быть использованными как взрывчатка, изъяты из продажи. Может быть, правда, твои дружки из вайнштубе пообещают тебе гранату, а гестапо последит за тобой, и у них возникнет интересная идея о заговоре, который инспирируют англичане, – Карл кивнул головой на Ваггера, – а поддерживают оборотни, пробравшиеся в партию, – и он ткнул пальцем себя в грудь.
– Следовательно, ты считаешь меня провокатором?
Ильзе поднялась из-за стола и сказала:
– Георг, родной, мы живем только благодаря тому, что Карл и Мария дают мне ежемесячно пятьдесят марок из его жалованья… Нельзя же так не любить людей, Георг!
Берг изумленно обернулся к Ильзе – она обычно молчала или весело болтала о чем-то с подругами во время вечеринки, собирала со стола тарелки или помогала хозяйке подать новое блюдо.
– Я люблю людей, Ильзе, – произнес он по слогам. – Но я терпеть не могу тех, кто продает себя из-за куска хлеба.
– И верно делаешь, – согласился Карл, – я с тобой согласен. Я тоже терпеть не могу предателей, которые в минуты трагедии пьют, чтобы успокоить себя и забыться в сладостном мираже… – Он посмотрел на Ваггера и вдруг жестко усмехнулся: – Хотя я и продался не за хлеб, а за рыбу… Впрочем, пользуясь твоей терминологией, все равно мы как жабы в вонючем болоте. Правда, поскольку тебе из-за беспробудной пьянки не дают работы, ты квакаешь громче других…
Берг тогда отшвырнул стул и ушел. Он ходил по городу до утра. Рано утром он разбудил Карла. Он запомнил, каким был Карл, открыв ему дверь: с отвисшей челюстью, бледный, в длинной ночной рубашке. Увидав Берга, он тяжело оперся плечом о косяк и сказал:
– Идиот… Ведь еще только пять… Иди, там на столе остались бутылки.
– Ты обязан простить меня, Карл, я говорил как свинья.
Они потом часто уезжали в горы вчетвером, забирая с собой и детей. У Карла и Марии было трое мальчиков, а у Берга девочка. Ребята собирали хворост. Карл разжигал костер, потом жарили колбасу на ветках, вымоченных в ручье, чтобы они как можно дольше не прогорали на белом пламени; дети прыгали через костер, пели песни и играли в свои беззаботные шумные игры. Карл иногда рассказывал о том, что происходит у них на собраниях членов НСДАП. Лицо его тогда каменело, хотя он показывал «весь этот балаган» до того уморительно, что Георг катался по траве и долго потом не мог успокоиться, иногда даже плакал от смеха.
Карл погиб на третий день после того, как его отправили на фронт в составе сухопутных СС. Это было летом сорок четвертого года, тогда в армию забирали всех, кроме работников гестапо и функционеров «Трудового фронта». А через месяц после его гибели были арестованы члены его подпольной антифашистской ячейки Мария и Ильзе. Ильзе в тюрьме умерла, Мария вернулась. Ее дети погибли вместе с дочкой Берга во время бомбежки: Берг взял мальчиков после ареста Марии к себе.
Мария долго лежала в госпиталях, потом три года пробыла в доме для душевнобольных, а когда вышла, правительство Аденауэра назначило ей пенсию как жертве нацистского произвола. Пенсия была довольно большая – третья часть той, которую Аденауэр платил вернувшемуся из тюрьмы гитлеровскому гросс-адмиралу Деницу, и это позволяло Марии путешествовать: она старалась как можно реже бывать в Германии.
Берг виделся с ней не часто: им обоим было трудно вдвоем, потому что каждый из них вспоминал прошлое, от которого осталась лишь горькая память.
…Мария очень изменилась за эти годы: Берг поразился – как она похудела. Но это молодило ее, и даже седые волосы казались париком; ничего старческого не было в ее облике. Они сидели за столом, не включая света. Берг неторопливо прожевывал тертую морковь и запивал сухим рейнским, удивляясь собственной храбрости: за последние двадцать лет он не брал в рот ни капли спиртного – боялся запоя.
– Ты молодеешь, Мария, и это не комплимент.
– Знаешь, только дороги могут отодвинуть старость, – ответила она, – когда все время ездишь и ложишься спать, зная, что ночью тебя разбудит будильник, чтобы успеть на самолет, который идет черт знает куда и вообще черт знает зачем ты на нем летишь, тогда время замирает. Это глупости, когда говорят, что в семьях старость незаметна. Может быть, самим-то и незаметно приближение, но зато со стороны… Я похоронила стольких подруг… Они сделались полными развалинами, потому что живут по порядку: раз ты бабушка, значит, старуха, и надо присматривать местечко на кладбище. Живы, но уже мертвы… Ешь свеклу.
– Спасибо.
– Слушай, Георг, я давно хотела тебя спросить и никак не могла… Почему тогда не смогли откопать детей?
– В тот раз прилетели внезапно. Была низкая облачность, никто не думал, что они прилетят. Была самая сильная бомбежка – в феврале сорок пятого… Я их до этого не водил в убежище… Не знаю, зачем я увел их тогда в убежище…
– Я встретила Ваггера…
– Он писал мне. Я с ним говорил на днях по телефону… Он удивляется, отчего ты отказываешься выступать с воспоминаниями о вашей борьбе…
Мария долго не отвечала. Хрустнула пальцами, вздохнула.
– Я не имею на это права, – сказала наконец она. – На это имела бы право Ильзе.
– Потому что она погибла, а ты жива? Это чушь.
– Не поэтому. Я никогда не говорила тебе… Я знала, что Карл погиб, и все свалила на него. А она ничего не сказала… Ни слова не сказала о Карле, хотя я перестукивалась с ней и сообщила, что Карл погиб… И про тебя ее спрашивали, им хотелось иметь группу побольше… Я ведь из-за этого потом легла в психиатрическую… Я не могла забыть ее во время очной ставки. И каждый раз, когда ты приходил, я вспоминала ее, поэтому я стала убегать в Африки и Персии…
– Зачем ты сказала мне об этом сейчас?
– В газетах появилось сообщение, что ты уходишь…
– И ты решила помочь мне продолжать драку?
– Нет. Какая там драка… Просто ты еще не отомстил за нее.
– Я не мщу, Мария. Если бы я мстил, меня следовало бы гнать из прокуратуры… И потом, какое отношение это мое дело имеет к Ильзе?
– Прямое, Георг. Я узнала на фотографии моего следователя. Его и тогда звали Курт – он убит в саду Гельтоффа. А следователем Ильзе был Айсман. Понимаешь? Он прижигал ей соски сигаретами. Ты должен знать об этом, Георг…
– Не надо бы тебе так, Мария…
– А зачем ты спрашивал: отчего я не выступаю с рассказами о нашей борьбе?!
– Прости…
– Я удивилась, когда ты сказал о мести. Об этом говорят нацисты: «Нюрнберг – это месть победителей». Наказание зла – это месть, разве нет?
– Нет. Нельзя так, Мария. Месть – это от зверства…
– А когда твою жену пытали огнем? Это от чего?
– Если хочешь отомстить врагу – старайся не быть на него похожим. Это трудней, чем отмщение. Доказать по закону, что зверство есть зверство, а звери должны жить в клетках, а наиболее кровожадные умерщвляться, но опять-таки лишь по закону, – в этом я вижу свой долг перед памятью Ильзе и Карла, и перед детьми, и перед твоими страданиями… Мы обязаны выслушать те слова и доводы, к которым станут прибегать эти звери. Мы должны запомнить их доводы и сделать их известными каждой немецкой семье: вот чем руководствовались респектабельные звери, когда они… пытали огнем… Пусть они говорят, что выполняли приказ, это будет острастка для тех, кто решится отдать подобный приказ в будущем. Пусть они говорят, что были исполнителями, если мы их повесим, это будет острастка для тех, кто захотел бы стать хорошо оплачиваемым палачом в будущем…
Мария вдруг заплакала:
– Георг, родной, что ты говоришь? Кого повесили? Десятерых повесили, а ведь у них в СС было семь миллионов, только в СС! И каждый третий был осведомителем гестапо! Я прочитала у какой-то юристки, что за каждого расстрелянного наши палачи получили лишь от десяти марок штрафа до часа тюремного заключения, Георг…
Она проводила его до выхода на летное поле и долго махала сухой загоревшей рукой – до тех пор, пока он не сел в автобус, увозивший пассажиров к самолету. Она шла по аэропорту мимо смеющихся, плачущих, целующихся, пьющих людей. Она прошла мимо телефонной будки, из которой на штаб-явку Айсмана звонил связник, сообщавший, «что дядя уехал и багаж отправлен вместе с ним». Мария прошла мимо того человека, сообщавшего Айсману данные, которые позволят дать радиосигнал мине, отправленной в багаже. Как только самолет пересечет границу Германии – на границе есть немецкие деревни, и не надо подвергать риску жителей, – самолет взорвется, и обломки его упадут на какой-нибудь итальянский хлев. Итальянцы предали Германию, сдавшись американцам в сорок третьем: ничего, пусть десяток черномазых сгорят в своих хлевах, если на них рухнет самолет, от этого человечество не пострадает…