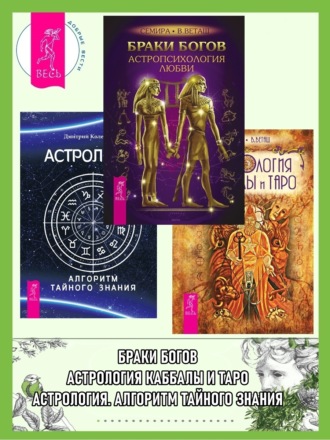
Семира
Браки богов: Астропсихология любви. Астрология: Алгоритм тайного знания. Астрология Каббалы и Таро
Невидимое метафизическое бытие проступает здесь само сквозь формы физического. И этим оно рушит и трансформирует устоявшиеся формы видимого. Любовь показывает бренность и хрупкость физического и одновременно ту основу единой связи жизни, или мировой души, благодаря которой физический план может существовать и быть видимым для нас. Истинная любовь – «навсегда», она неотделима от вечности: от полноты реализации жизни «здесь и теперь», рождающей ощущение вечного возрождения (как в мифах богиня любви воскрешает своего возлюбленного). Поэтому любовь выше смерти – как в современном восприятии, так и в древних мифах. В этом смысле можно трактовать и платоновскую концепцию Эрота в «Пире» как сына Пороса-богатства (метафизически – полноты бытия) и Пении-бедности (метафизически – материи): жизни, смешавшейся с недо-жизнью: любовь-Эрот носит в груди утрату, истощение, недобытие (meon), свойственное Пении, потому он не бессмертен, но многократно умирает и воскресает[28]. Если продолжить мысль Платона, еще-не-жизнь именно так становится жизнью.
Именно из-за сдвига восприятия состояние любви часто художественно оценивается как болезнь, как и восторг, вдохновение, вдыхание «божественного энтузиазма».
Платон называет любовь «манией», наряду с другими тремя видами божественного «неистовства», пророческим, поэтическим и связанным с посвящениями: «неистовство бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что принято». «Поэтому не стоит его бояться… подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья»[29]. Все четыре вида «мании» выводят нас из обыденного состояния сознания и тесно переплетаются между собой, даруя видение, которое превышает ограниченность времени и самого субъекта. Продолжая мысль Платона, Фиччино писал, что это «те образы неистовства, на которые вдохновил нас Бог, возвышают человека над его человеческим, земным содержанием; и они же обращают человека в Бога»[30].
Любовь пробуждает ощущение полноты бытия, которая может оборачиваться избытком энергии, переживаемым как страдание и тяга к смерти, если импульс эротической энергии не находит выход в расширении сознания через направленность чувства. Здесь можно отметить не только общее родство любви духовным процессам, но и близость Эроса и Танатоса. Духовные процессы часто характеризуются как процессы сознательного умирания – хотя одновременно и регенерации. Также и любовь, как экзистенциальное переживание, есть влечение к смерти – и его преодоление, как чувство возрождения жизни. И символическое «убийство» Дамы в организации «Адептов любви», к которой принадлежал Данте и в которой любовь играет роль мистически-духовного пути, не только раскрывает алхимический символизм[31], она приближает к экзистенциальному переживанию данного архетипа.
У. Джеймс обратил внимание на сходство душевных состояний в любви и религиозных откровениях: «Ощущение новизны озаряет каждый предмет – в противовес нереальности и отчужденности мира, в котором каждая вещь теряет одна другую»[32]. Аналогично Стендаль писал, что страсть обнажает перед глазами человека всю природу, как будто она только вчера сотворена. Религиозный опыт «открытия сердца», как православный, так и герметический, сопровождается тем же переживанием опыта свежести, новизны и преображения мира. И наоборот, ощущение уныния, тяжести жизни, обездушенности мира, безразличия ко всему связано с нехваткой любви.
Любовь архетипически соответствует весне, утру года, а не ночи и сну зимы, и она не ведет к погружению в транс или полусон, то есть состоянию ночному.
В мировой мифологии богиня любви архетипически соотносится с утренней звездой и зарей нового дня.
Эту эмоциональную параллель отмечает и Эвола: «Конечно, связь между любовью и ночью хорошо знакома романтической поэзии, но если мы проведем мысленный опыт, заменив выражение „ночь любви“ на „зарю любви“, мы сразу же услышим в первом сочетании некий неверный звук»[33]. И изменение сознания в любви не есть безмыслие: оно предполагает не худшую, а лучшую осознанность – не погружение во тьму, в «ночь» сознания (куда может повергать зависимость от химических веществ), но выход к «утренней», обновленной ясности и свежести представлений, к тому, что и называется открытостью восприятия.
Эмоции эволюционно возникают как фиксация природных состояний: закат – печаль, утро нового дня – радость, и своих настроений, связанных с ними, которые потом проецируются на результаты собственной деятельности и закрепляются в памяти как нечто предметное, поскольку сознанию человека свойственно все воспринимать как предмет. Так и любовь сначала не имеет образа и получает его от впечатления рассвета, а потом оформляется в понятие, которое ближе к нашему времени становится абстрактным и требует конкретизации через отношения людей. Хотя в мифологии любовь еще выступает как всеобщее понятие, и религиям присуще именно такое понятие любви.
Спиноза логически доказывал, что истинная человеческая любовь – это любовь к Богу: часть бесконечной любви, которой Бог любит самого себя.
На Востоке Вивекананда, а на Западе П. Тейяр де Шарден утверждают, что основа всех видов любви – это любовь к Богу, к абсолютному. При этом Тейяр де Шарден определяет ее так: «Любовь во всех своих нюансах – след, оставленный в сердце элемента психической конвергенцией к себе универсума»[34]. С. Моэм сравнивал любовь с тоской по Богу, о которой говорили святые.
Для Л. Фейербаха сама религия есть открытое исповедание тайн любви. Любовь обнаруживает ее сокровенную суть, раскрывая совершенство человека: «Человек отличается от животного не одним только мышлением. <…> Человек отличается от животных тем, что он – живая превосходная степень сенсуализма, всечувственнейшее существо в мире… в нем чувственное ощущение из относительной, низшим жизненным целям подчиненной сущности становится сущностью абсолютной, самоцелью, самонаслаждением»[35].
Человек достигает внутренней полноты в контакте Я и Ты, и поскольку каждый человек бесконечно глубок, он может неограниченно открывать в себе и другом глубину и высоту. Если считать разум мужским свойством и эмоции – женским, взаимообмен любви делает женщину более разумной, а мужчину – более эмоциональным (по Юнгу, таковы характеристики Анимы для мужчины и Анимуса для женщины). Хотя Бергсон, напротив, утверждает, что у мужчины эмоции сильнее, что и дает ему творческий потенциал более сильный, чем у женщины. Женщина же более рассудительна: она хранит память, которая служит основой разума. В любом случае это не означает, что мужчина теряет свою сознательность (как и женщина – свою эмоциональность) при таком взаимообмене. Скорее, внутреннее становится внешним, и в Каббале различие мужского и женского выражается так:
«Сущность мужчины есть Любовь, облик его есть Премудрость. Сущность женщины есть Премудрость, облик ее есть Любовь»[36].
Поэтому более логично говорить о пробуждении собственных природных свойств: «Верность собственной природе, согласие с нею и есть единственно экзистенциально верное поведение»[37].
Любовь женщины конкретна: ее задача – союз двоих и вынашивание третьего, цементирующего и увековечивающего тот союз, хранительницей которого она является. Любовь мужчины нацелена на всеобщее: его биологическая роль – обеспечить достойную жизнь ребенка во всей широте существующего мира, а метафизически – существование идей союза во всеобщем сознании, и активная роль в изменении сознания принадлежит ему. Поэтому любовь к Богу как всеобщему сознанию – по сути мужская, женская же – любовь к конкретному человеку (как поется в песне, «она глядит на него, а он глядит в пространство»). И в этом, несколько условном противопоставлении (поскольку в каждом есть и мужская, и женская природа), при всем общечеловеческом стремлении к всеобщему единству нельзя забывать о личной направленности любви, которая дает ответственность и осознанность.
Как говорит Бердяев, «любовь к любви вместо любви к лицу – в этом психология разврата»[38].
Неслучайно гностический образ Софии, становящейся всеобщей связью и душой мира, еще имеет черты распутницы, как у древних богинь любви. Но, как и у этих богинь, эти черты преодолеваются в любви к супругу. Здесь красив образ индийской Савитри из поэмы Шри Ауробиндо[39]. Роль ее та же – проявить связь разрозненных вещей мира. Когда в споре с богом смерти она воскрешает супруга, Творец дает ей эту роль: любовь откликается ей из сердцевины всех вещей и через нее соединяет их между собой и с Богом. Но это – любовь конкретная, личная, осознанная, сконцентрированная на своей цели и потому лишенная развращенности, рассеянности по миру Софии – мировой души гностиков, которую еще только надо собрать из разрозненного мира вещей[40].
Религии, ритуализируя брак, ясно указывали на его творческую функцию, помогая понять роли мужчины и женщины как в бытовом, так и духовном взаимодействии. Все культурные народы сходились в мифологическом понимании творения через образ соединения супругов. В брачном ритуале это почти одними и теми же словами зафиксировано у шумеров и индусов:
«Я Небо, ты Земля. Я песня, а ты строфа… О Небо и Земля, соединитесь!»
Аналогия духовного с физическим, дошедшая из древней мифологии до герметизма, позволяет понять притягательность женского как того, что осуществляет в себе целостность творения. Вбирая в себя мужское, женщина рождает ребенка, а метафизически – так же творит «мир», в котором оказывается заключено мужское: новое бытие, которому служит мужчина и которое он организует, как Христос в гностической традиции, приходящий на помощь Софии, чтобы оформить порожденное ею[41]. А затем покидающий ее, оставляя ей боль разлуки, – и это напоминает мифы о трогательном отделении Неба от Земли, необходимом для того, чтобы мир существовал (например, полинезийский миф, где Небо проливает слезы об оставленной внизу Земле, которые ложатся каплями росы на ее грудь[42]). Или разлуку Творца и Шехины в иудаизме.
О духовной функции брака свидетельствуют слова Каббалы:
«Святой – да будет он благословен – живет только там, где все (как и Он) едино. И если мужчина и женщина соединяются, то соединяются в теле и душе, и человек становится единым, и Он обретает жилище в этом едином, и единое духовно»[43].
Материалистически это можно понять так, что разделение на два пола делает человека нуждающимся в своем биологическом дополнении, и именно в этой неполноте – причина экзистенциальной тоски и стремления к Богу.
Цель индуизма – освобождение, и поскольку жена выступает как богиня дома (хранительница огня очага), говорится: знающий жену как форму огня достигает освобождения.
А христианство ставит акцент на преображении мира, поэтому царские венцы над супругами при венчании указывают на их миссию активного проведения в жизнь общей воли их союза. Правда, традиционное христианство теряет это активное начало преображения мира – которое более живо в гностической традиции, дополняющей официально-церковную точку зрения первых соборов. И у нас стремились восстановить его православные философы (софиология В. С. Соловьева и его последователей). А на Западе это герметизм как эзотерика христианства, получившая всплеск в Реннесансе, как увлечение гностицизмом, Каббалой и алхимией: «Если мы будем искать в Еве Софию, помогая ей осуществить свой женский архетип, стать „женой Бога“, то мы войдем в пространство, где христианство испытывает сильные гностические влияния»[44].
Жизненно-активное, радостно-эротическое начало возрождалось и в народных формах христианства, на что обращал внимание еще один русский защитник творческой любви – В. В. Розанов, страстно любивший духовность христианства и именно поэтому упрекавший его в потере жизненности из-за пассивного ожидания иного бытия за гробом:
«Брак есть не только таинство, но величайшее из таинств:…вступая в брачную, то есть глубочайшую связь с человеком и человечеством, каждый из нас подходит к краю индивидуального бытия своего, он стоит на берегу неисследимых оснований личного своего существования»[45].
Практический вывод, который можно сделать из этих философских изысканий, в том, что современный интерес к достижению измененных состояний сознания при помощи техник «грофианского» типа свидетельствует о неспособности достичь их естественным путем – путем любви. Если еще до перестройки и усвоения западных веяний молодым людям обычно хватало идеализма влюбленности и отклика взаимной любви для достижения необычных состояний сознания, устремляющих к абсолютному, то сегодня им нужен допинг. Причина – в прагматизме жизни, зауженности социального мировоззрения, не допускающего высокой мечты, и просто иной качественности времени – что однако не извиняет толерантности к наркотикам. Надо понимать, что стимулирующие вещества – это насильственное изменение сознания помимо воли человека[46], именно потому человек часто не может справиться с их эффектом. Если на фоне безбедного, социально обеспеченного, существования западных стран это выглядит забавой, то в тяжелых условиях российского выживания и потери смысла жизни на фоне релятивизации ценностей неестественный прорыв психической защиты личности от нежелательных состояний делает ее беззащитной перед требованиями жизни, потому нередко заканчивается трагически. И так ли уж российские люди не способны любить, что готовы допускать насилие над личностью, даже в стремлении расширить свои горизонты?
С. В. Ключников приводит любопытный факт, свидетельствующий о том, что в России сексуальное чувство еще не превратилось в предмет купли-продажи, в отличие от Америки, где по социальному опросу несколько процентов населения за гипотетическую сумму в миллион долларов согласилось до конца жизни не иметь половых отношений. У нас на это не согласился ни один из опрашиваемых людей, из чего можно сделать вывод, что естественный путь любви открыт для всех[47]. Только сведение роли эротического опыта к чисто физическим ощущениям в массовом сознании может быть причиной того, что высоты этой сферы и ее уникальный личный опыт исчезает из поля зрения, заменяясь на суррогат. Таинствам любви сейчас необходима грамотная десакрализация, которая бы дала цель и смысл жизни юных людей.
Эвола же так оценивает современное состояние понимания роли любви:
«В области половой любви вся наша цивилизация глубоко упадочна. Ее сексуальности соответствуют примитивная чувственность, неврозы, банальный разврат».
Таков и уровень современной сексологической и эротической литературы. Он никак не расширяет истинных горизонтов, скорее наоборот. «Только то, что сохранилось от мира традиционных культур, включая современный уклад жизни Востока, свидетельствует о существовании совершенно другого образа человека, не ограниченного материальными запросами, психологией и физиологией, бесконечно более сложного, знающего свои подлинные возможности и действующего, в том числе и в области секса, в соответствии с их высшим порогом». «Мы должны понять – почти все вокруг, почитаемое нормальным и естественным, таковым не является… Во всем, и в первую очередь в области пола, раскрытие подлинных глубин и первоначальных смыслов и связанная с этим полная реинтеграция человека как такового связаны с преодолением абсолютно всех психических и духовных миражей материальной цивилизации»[48].
Путь любви – наиболее естественный путь, который возможен в мире с релятивностью ценностей и свободой атеизма. Но этот путь требует самоотдачи в реальных жизненных условиях, взрослой и сознательной юности души, осознанного согласия на ее трансформацию и регенерацию. Мистический опыт любви требует принятия полной ответственности за другого (которой требует и церковный брак). Без этого он не может осуществиться: глубина отношений требует страховки такого рода, чтобы страсть давала эффект регенерации, а не разрушения («роковая страсть» в романах XIX века, обратившихся к осмыслению этой темы).
Эгоистичность и индивидуализм, ставшие во многом нормой общественной жизни, делают людей эмоционально инфантильными, а значит, не допускает интенсивности той любви, что ведет в духовные высоты отношений.
Погружение в глубину чувств остается опасным, и вместо развития личности, которое дает любовь в естественном варианте, может обозначить ее деградацию, связанную с разочарованием, унынием, неверием и т. д. Такие реакции являются проявлениями негативного мышления ума, которое служит защитной реакцией эго, чтобы не допустить трансформирующих его чувств.
Опыт любви, меняющей сознание, – прежде всего концентрация на любимом, понимание его мыслей, принятие его эмоций, чувствование его телесных реакций как своих. В этом нет ничего невозможного (недавние опыты исследования сознания показывают, что человек может воспринять как свое тело даже манекен, что же говорить об отождествлении с любимым!). Такое отношение естественно легко становится мостом к расширению сознания до духовного восприятия единства мира: «Когда духовное существо человека действительно направлено к высокой цели, сила пола преобразуется сама собой, без насильственного вмешательства и подавления»[49].
Любовь двоих возносит к русскому Всеединству или индийской недвойственности, хотя удержать это состояние в нашей повседневности отдельным людям трудно, потому и привлекают техники. Однако если критическая масса людей («творческое меньшинство», по А. Тойнби) приблизится к такому состоянию, то оно может стать более доступным (в этом и практическая суть христианской соборности). «Измененное состояние сознания» творящей и преображающей мир любви – опыт созидания своей реальности – тогда станет нормой.





