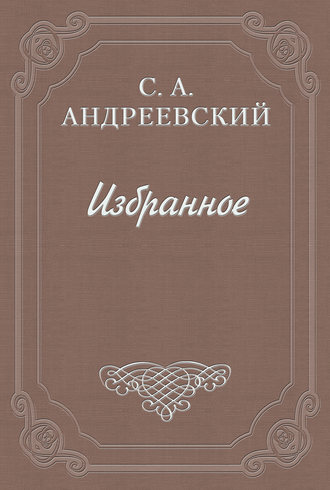
Сергей Андреевский
Книга о смерти. Том I
И так прошел этот первый год моей университетской жизни. На лето мы поехали к семье. Во время каникул с нами обращались в доме, как с полувзрослыми. Наши младшие братья почувствовали между собою и нами как бы целую пропасть. И в середине августа мы опять возвратились в Харьков.
V
Совсем иная жизнь началась для меня на втором курсе. Еще летом мы узнали, что Сомовы уехали на два года за границу. Мы лишились этого дома, заменявшего нам семью. Брат нашел квартиру в маленьком домике у небогатых купцов за Нетечью, в глухой местности, в которую я раньше никогда не заглядывал и которая находилась в противоположном конце от того центра, где вращалась вся наша жизнь в предыдущем году. Все прежнее будто скрылось из моих глаз. Мы поселились с одним нашим товарищем по гимназии в трех комнатках с окнами, выходившими не на воздух, а на закрытую стеклянную галерейку. Поэтому в них всегда был полумрак. Когда по галерейке мы выходили через калитку на улицу, то казалось, что мы живем в селе: домики были низкие, улица немощеная, с глубокими колеями. Осень выдавалась дождливая. Приходилось «месить грязь», пробираясь по длинной топкой площади к центральной части города. Однажды эта грязь даже втянула в себя одну из моих глубоких калош, и брат должен был купить мне новую пару.
Вокруг меня образовалась какая-то сиротливая тишина, потянулись однообразные, пасмурные дни. Дорога в университет и обратно неприятно поражала мое зрение. Из нашей узенькой и безмолвной улицы мы выходили на пустырь, окружавший реку, а затем направлялись через мост к университету мимо железных и москательных лавок с запахом перца и рогож и постоянно встречались с подводами, пересекавшими нам путь у въезда в какой-нибудь постоялый двор. Все это нисколько не походило на прежний знакомый нам город. Самый университет, когда я приближался к нему с этой стороны, казался мне унылым. Прослушав лекции, я опять спускался мимо тех же лавок к Нетеченскому мосту, и сердце мое сжималось, когда я шел через пустырь в нашу глухую улицу. Я подходил к знакомой калитке, как будто за нею меня ожидала низенькая тюрьма, и, пройдя через галерейку, я с холодною скукою нажимал железную скобку нашей двери. Те же три темные комнатки встречали меня своим душным молчанием. Затем мы шли обедать к хозяевам. Прямо из прихожей в их гостиной был накрыт стол, приставленный к окну и занимавший почти всю эту крошечную комнатку. За обедом всегда сидели неизменные члены семьи: сам хозяин, старик с густыми черными бровями, бритый, как актер, его жена, крепкая и подвижная баба с маслянистыми начесами, с большими, глупо-веселыми глазами и плоскою болтовнёю, их молодая замужняя дочь, маленькая бескровная блондинка с голубыми глазками и довольно хорошенькими чертами лица, но с каким-то вялым и тупым выражением, и, наконец, супруг этой блондинки, человек лет за сорок, худощавый, с пробитым ртом, узенькими песочными баками на впалых щеках, крючковатым носом и сиплым голосом. Обыкновенно нам подавали жирные щи, кашу и жаркое, а по праздникам еще и сладкое… Хозяйка звучно щебетала за обедом какой-нибудь вздор, хозяин кротким голосом изредка вставлял свои неинтересные замечания, зять мрачно ревновал к нам свою беленькую молоденькую жену, а эта жена, с двумя жидкими коками светлых волос на лбу, в своей сеточке, скрывавшей кончики ее стриженной косы, сидела себе, маленькая, покорная и безжизненная, словно стеариновая.
После обеда мы возвращались в наши комнаты. И каждый день повторялось то же самое. Мой брат и мой товарищ нисколько не изменились; они по-прежнему бодро занимались своими предметами. А я чувствовал, что понемногу, с каждым днем все глубже, погружаюсь в какую-то непонятную тоску. Когда они по вечерам сидели за своими книгами или что-нибудь писали, я ходил взад и вперед по нашим трем комнаткам, заложив руки в карманы, и не знал, за что приняться. Ни к чему я не имел охоты. Я не видел никакой надобности так прилежно заниматься лекциями. Часто я ложился на кровать и смотрел в потолок, ожидая только, чтобы как-нибудь прошло время. На следующий день я опять шел в университет, молчаливый, равнодушный, будто лишний на свете. Ощущение постоянного, неподвижного холода подкралось к моему сердцу. Вся жизнь казалась мне гадким, тревожным и непонятным призраком. Все это надвигалось на меня так постепенно и так незаметно, что я не успел спохватиться, как это состояние завладело мною наконец вполне, и я уже чувствовал себя неизлечимым. Казалось, что даже во сне я продолжал утомительно думать о чем-то неразрешимом, и когда утром я раскрывал глаза, то, глядя с кровати на мое тусклое окно, выходившее на галерейку, я уже совсем не понимал, зачем мне нужно вставать, одеваться, пить чай и т. д. Но я продолжал делать все это с безмолвным, неприметным для моего брата и товарища, внутренним страхом и недоумением. Я старался вспомнить и определить, когда же именно я успел так непоправимо потерять прежний взгляд на жизнь, и утешал себя тем, что еще 8-го ноября, в день Михаила, на именинах брата и товарища, когда у нас была вечерняя закуска, я еще как-то умел забыться; болтал с двумя студентами и вообще хотя скучал, но разумно мирился с едою и разговорами. А теперь уже и это казалось недостижимым. Я возненавидел ту окраину города, где мы поселились. Все мои странные мысли так неразрывно связались с этими переходами по берегу Нетечи к нашему домику, с нашими комнатками и хозяевами, что я приписывал этому воздуху и этой среде какое-то особенное, страшное влияние на мою душу. Дни чередовались, нестерпимо долгие и тяжкие, завлекавшие мою мысль все далее в ужасающее отрицание жизни. Никакая логика не помогала. То, что вступило в меня, казалось мне истиною. Перед тем черным и безмолвным призраком, который заполнил меня всего, от макушки до пяток, никакая повседневная мелочь не могла сохранить своего разумного значения. Помню, что однажды у нас, в субботу, вымыли полы и зажгли лампадки перед иконами. Блеск полов, запах мокрой тряпки и огоньки у образов вызвали во мне содрогание: я совсем потерял прежний смысл этих простых обычаев жизни. Наконец и брат заметил, что со мною «творится что-то неладное». Я почти не ел, и вот это именно его встревожило. Он считал потерю аппетита единственным верным признаком болезни и как-то сказал нашему товарищу: «Он мало ест – вероятно, он болен». Помнится мне и один из наших ежедневных обедов у хозяев. Все обратили внимание на мой мрачный вид. Добрый старик, муж хозяйки, заговорил своим мягким голоском, что все это у меня пройдет и что он еще надеется когда-нибудь получить приглашение на мою свадьбу. Эти простые слова показались мне тогда безумными. Я видел перед собою безысходное отчаяние; мои давнишние мечты о женщине совсем исчезли; я вспоминал, как о няниной сказке, о тех непонятных минутах, когда я поцеловал Машину руку; я видел теперь ясно, что в жизни ничего нет и быть не может и что моя свадьба, среди веселых гостей, с какой-то неизвестной красавицей, конечно, была бы с обычной точки зрения счастливым и завидным событием, но я до такой степени не был в силах вообразить себе что-нибудь подобное, что мне оставалось только сонно и горько улыбнуться в глубине моей души, слушая эти речи хозяина. А там, в моей душе, было тесно, холодно, безутешно – ужасно. И никто этого не видел… Я чувствовал, что маска печали застыла на мускулах моего лица и сковала их с такою силою, что никакое одушевление не могло их расправить. Глаза мои горели беспокойным огнем утомленной мысли. Не понимаю, как это я еще сохранил способность жить, не видя решительно никакого смысла в моем каждом следующем шаге, в каждом действии, в каждом слове… Чем дальше, тем больше поддавался я этому захватившему меня состоянию. Если мне и случалось забываться в полусне, то сейчас же по возвращении сознания я с бессильным горем повторял себе: «Этот ужас со мною…» И еще легче всего мне было, когда я лежал на кровати: тогда я не двигался и заставлял себя думать, что переношу какую-то тяжкую болезнь. Но затем опять наступало время, когда я должен был держать себя наравне со всеми здоровыми, и это было невыносимо… У меня рябило в глазах и тупая тревога замирала на душе, когда я входил с толпою студентов в аудиторию. Я делал вид, что слушаю профессора, а мне решительно ничего не было нужно… Иногда, среди лекции, я старался припомнить что-нибудь простое, радостное, прежнее из моей жизни в семье, – например, когда еще на последних каникулах мы как-то возвратились ночью из городского сада и отец вынес нам из своего кабинета разные вкусные вещи, и мы, все братья вместе, так дружно лакомились при свече, весело оглядывая скатерть и тарелки… Но теперь я не понимал и этого!..
Я не рисковал зайти ни к кому из прошлогодних семейных знакомых. Я знал, что мне будет с ними слишком мучительно, потому что я к ним войду с «этим» и не сумею им объяснить, что со мною сделалось, и не смогу держать себя так, как они ожидают.
Все погибло! И все так страшно вошло в меня, что помощи уже ниоткуда не было видно… К чему я? Кто меня держит? Кто терзает мои мысли? Как отвратителен, и мелок, и тяжек этот ненужный базар жизни!
И это продолжало тянуться неизменно. Брат написал наконец домой, что мне следовало бы для поправления здоровья провести рождественские праздники в семье. Пришло разрешение. Мы собрались в дорогу и поехали. Я сел в кибитку, как автомат, внутренне пугаясь того, что я повезу с собою все это новое горе в ту обстановку, где живут самые близкие мне люди. Если они не поймут, тогда уже мне не останется никакого спасения. Но, впрочем, я и не думал о спасении. Я был беспомощен и знал это и сидел в кибитке рядом с братом с тем же неподвижным лицом, с каким лежал в наших комнатах на моей кровати. Ничто не нужно – ничто не понятно… Помню, что в середине дороги, на одной из станций, перед рассветом, ямщик при фонаре, поставленном на снег, долго и усердно возился с упряжкою пристяжной. Из открытого поля мне дуло в лицо холодным воздухом. Я впился глазами в этого крепкого человека, так серьезно и так значительно занятого в потемках своим, по-видимому, ничтожным делом ради того только, чтобы мы могли ехать дальше… Значит, это нужно… Ведь вот он не размышляет, но по всему видно, что то, что он делает, необходимо?.. О, если бы что-нибудь было необходимо!.. И, кажется, действительно, вся эта жизнь вне меня есть что-то слишком сильное… И вот, например, мы с братом едим теперь холодные пирожки… Может быть, так надо… Может быть, я еще когда-нибудь возвращусь ко всему этому…
Когда затем мы вошли в родной дом и меня встретили знакомые добрые лица, когда матушка, проведя рукою по моему лбу, спросила меня со спокойною улыбкою: «Что с тобой?» – я сразу сконфузился, не находя никаких слов, чтобы передать мое страдание. Я только тихо проговорил, наклоняя голову и целуя ее руку: «Мне очень скверно». Но я чувствовал, что мой внутренний страх и моя непоправимая черная печаль никому не видны; что я всем им кажусь прежним, таким же, как был. Все эти родные фигуры, наполнившие комнату, обдавали меня какою-то успокоительною теплотою; я со всеми здоровался, переходил с места на место и сознавал, что я с виду точно такой же, как и они; мои шаги звучали на полу, как шаги отца и братьев; я все слышал и на все отвечал впопад. И тут же я совсем растерялся, как бы застигнутый врасплох в моем мучительном бреду этою моею прежнею жизнью, которая ни в чем без меня не изменилась и принимала меня в свою привычную обстановку как своего, как равного. Эти первые минуты встречи сразу дали толчок в самое нутро моей души. Я испытал нечто похожее на то, как если бы меня вдруг кто-нибудь выхватил за шиворот из реки, в которой я захлебнулся. И хотя во мне назойливо шумело то же самое, глубоко застрявшее во мне, отчаяние, – и сердце мое сжималось от страха и глаза смотрели вокруг, – но мне впервые поверилось, что все это может когда-нибудь (о, еще нескоро!..) отступить от меня. Я напряженно следил за собою с часу на час. Я уселся в комнате матушки, слушал ее и смотрел, как она шьет и кроит. Туда заходили братья и рассказывали мне разные новости, начиная со слов: «А ты знаешь?» и т. д. Все это было для них важно, и я поневоле втягивался в их интересы. В столовой застучали тарелки. «Неужели я сегодня сяду за обед, как бывало, – без глубочайшего сомнения в его необходимости, без напрасной муки насчет его ненужности?» И я сел, как другие, и хотя во мне дрожала та же безобразная тоска, но я старался приноровиться к общему тону и настроению, я выбирал куски, когда мне подносили блюдо, вмешивался в разговоры и подумывал о том, как сейчас после обеда зажгутся свечи и начнется вечер такой же понятный, как все наши вечера в семье.
Была ли это болезнь, я не знаю. Наш домашний доктор, опытный старик, знавший каждого из нас с малолетства, нашел все это пустяками, предсказав несомненное поправление, и только почему-то посоветовал мне есть поменьше мяса. Так или иначе, но с первого же дня моего приезда в семью я начал как бы ощупью искать возврата к обычному состоянию. Но я налаживался с чрезвычайными усилиями и с поразительною медленностью. Та страшная и мертвая река, в которой я чуть было не захлебнулся, выпустив меня из своих объятий, еще долго и сердито грозила мне издалека… А того, что я видел под ее волнами, я никогда не забуду.
После рождественских праздников, проведенных в семье, я убедился только в одном: что можно, с помощью непрестанно напряженной власти над своим воображением, понемногу возвращаться назад, к обычной жизни, из тех ужасающих областей мысли, которые раскрылись передо мною в наших комнатках за Нетечею.
По моей просьбе, брат уже туда не возвратился. Он нанял нам комнату во дворе большого неоштукатуренного дома на одной из тех главных улиц, на которой стоял опустевший Сомовский дворец. Комната была совсем простая, но довольно высокая, только что выбеленная, с дощатым полом, – она ничем не походила на наше прежнее жилище. Я трусливо поджидал: как мне удастся мой первый выход в университет? Произошло это так: я спустился с лестницы, прошел через двор, мимо внутренних высоких стен здания, и вышел из-под ворот на тротуар широкой нарядной улицы. Вдали виднелась терраса, ведущая на «университетскую горку». Все это сразу напомнило мне жизнь первого курса, и я крепился, сколько мог, чтобы не выскочить из приливавших ко мне впечатлений того приятного и спокойного прошлого. Это первое посещение университета прошло настолько удачно, что на следующий день я уже мог поддерживать себя вчерашним примером. И так постепенно, обуздывая свои мысли, я работал с медленным, но верным успехом над возвращением своим в «колею». Мы проводили время в тех же однообразных занятиях; жизнь наша была такая же тихая, без всяких развлечений. Но я радовался уже тому, что когда вставал утром, умывался или молча пробегал записки, то не чувствовал на мускулах своего лица никакой безотрадной маски. Более всего я заботился о том, чтобы среди самых бесцветных подробностей жизни лицо мое сохраняло вполне удовлетворенное выражение и чтобы моя мысль никогда не забиралась в такие вопросы, от которых может «ум вскружиться». Этим способом я угомонил себя только к весне.
В конце февраля разнеслась весть, что в Харькове будет сделана однодневная перепись всего населения при посредстве студентов. Каждый из нас получил из полиции множество серых листов с печатными вопросами-графами. Мне был назначен участок из пятнадцати мещанских и крестьянских дворов на Холодной Горе. Перепись должна была состояться первого марта. Я был очень доволен, что от меня требуют чего-то важного, и мне нравилось, что вся молодежь в этот день, в те же самые часы, рассыплется по всему городу. Я оживился и готовился к этому дню.
День был яркий, солнечный и веселый, несмотря на лежавший на крышах снег. Я отправился по нашей улице далеко-далеко, в противоположную сторону от университета, за город. Мне приходилось подниматься в поле. В кармане пальто я с гордостью ощупывал пачку моих бланков. По мере моего восхождения на Холодную Гору, постройки редели, а снег на всей земле вокруг делался пышнее и выше. Но сильное солнце разрыхляло его и повсюду слышался шум ручейков. Назначенная мне улица оказалась почти на самой вершине; она состояла из реденького ряда избушек между высокими сугробами. Все эти избы покорно раскрывались перед моими листками. Жители были добродушные и покладистые. Нигде я не встретил ни особенной нищеты, ни горя. В некоторых домах мне выражали тревогу по поводу переписи, но я всех успокаивал, что это делается только ради того, чтобы узнать, сколько может быть в Харькове живых людей в один день. И мне верили. А солнце ниспускало на снег миллионы лучей. Я замечал, что пока я заполнял мой листок в каком-нибудь домике, уже по выходе из него белый сугроб перед окнами успевал уменьшаться на половину. Щеки мои разгорелись. Я исправно исполнил поручение и возвратился в нашу комнату вполне успокоенный, как бы после настоящего хорошего дела.
С этого дня я и признал себя, насколько возможно, исцеленным. Вскоре понадобилось готовиться к экзаменам. Запоминание литографированных лекций наполнило мое время. Я принялся за эту работу, как если бы мне было прописано делать столько-то верст пешком каждый день. Все готовились – и я тоже. Это был своего рода спорт; память у меня была свежая, да и записки не содержали ничего мудреного.
Собирались мы по два, по три человека на разных квартирах, сидели по ночам, поддерживая себя чаем, один читал, другие – запоминали. Я проникался настроением товарищей. Они имели вид, что все их счастие зависит от успеха; для некоторых это заучивание было настолько мучительно, что я готов был передать им способности, которые мне самому казались излишними. Юриспруденция меня не увлекала, а многие ее отделы даже забавляли меня комически важным изложением разных пустяков, известных всем и каждому. Но я уже решил во все это не вмешиваться. Я твердо запомнил, что над самыми важными вопросами вовсе нельзя задумываться, потому что даже цель жизни никому неизвестна.
Моя мысль, от первых моих сознательных дней, казалась мне беспредельною, способною постигать самого Бога и слышать его голос внутри моей души. Но эта мысль, по мере того как я вырастал, уже столько раз и так больно ударялась о страшные мертвые стенки, что и сама чуть не погибла. И под конец мне стало все равно. Я только думал, что все видимые и угадываемые бездны доступной нам вселенной все-таки еще ничтожны. Я замечал, что во всем наблюдается известный ритм, какой-то однообразный закон, какая-то неволя. Глаз и ум теряются от неведомых богатств земли и от целого вихря небесных миров – это правда, но и на земле, и там, в этих безднах неба, царит, в сущности, томительное однообразие. У нас, например, на земле: рождение и смерть, день и ночь, время года, способ размножения, – ведь это все монотонно, как бой часов на каторге! Хоть тресни, одно и то же! А там, в этом видимом, хотя и бездонном небе? Точно так же: все шары, шары и шары, – без конца, и все эти шары связаны однообразнейшим законом притяжения. Какое рабство для Бога, какая бедность вымысла для беспредельной идеи! Все это действительно громадно, так громадно, что мы только ужасаемся своему ничтожеству. И однако же наша мысль по природе своей неизмеримо свободнее этого заповедного, непререкаемого рисунка Вселенной. Как! Один только неисчислимый огненный бисер, рассыпанный в голубой беспредельности? И так до бесконечности? И больше ничего?! Нет, этого мало.
Но все равно: я знал, что никакого ответа на эту загадку не последует. Поэтому необходимо было приспособиться к тому микроскопическому масштабу, в котором вращалась моя жизнь. И я это сделал, и ничего… жил.
Мои экзамены сошли удачно. На лето мы остались в городе поджидать семью, которая вскоре и приехала к нам в полном своем составе, так как оба младшие брата уже окончили гимназию. Нанят был на Сумской улице белый домик в три окна, с зеленою железною крышей. В небольших комнатах появились родные мне вещи: стенные часы, портреты, клеенчатые коврики на столах и т. п. Матушка умела убирать квартиру просто, но уютно. И когда наступила осень, то я ходил в университет уже прямо из дому, точно так же, как прежде ходил в гимназию.
Что-то чуждое мне наблюдал я в том, как складывалась на моих глазах жизнь моих современников. Они казались мне чрезвычайно самонадеянными, смелыми, как бы слепыми. Я еще раньше читал, как Ренан развенчивал моего детского Христа; теперь Писарев, при общих рукоплесканиях, вышутил Пушкина. Все, что было мечтательного в моей натуре, пристыдилось и съежилось. В русской поэзии славился тогда Некрасов. Но когда при мне кто-нибудь из молодежи декламировал его самые модные вещи, я оставался холоден к грубому, тяжеловатому некрасовскому языку и думал про себя: «И зачем это говорится стихами? Уж лучше бы прозой!» Во всех романах «душа» заменилась «мозгом». Всюду царствовали «положительное знание» и «материя». И мне было до слез жалко моего Единого Бога с Его простым сотворением мира, с Его незабвенными Адамом и Евой и первыми «земледельцами»… А кроме того, еще совсем недавно: Гёте, вопрошавший «Всесильного Духа», Байрон, грозивший небу, гармоничный, пылкий, душевный и глубокий Лермонтов с его «Демоном», с его взыванием к облакам и звездам, – куда же все это девалось?..
В сущности, ничего не было проще, как попасть в тон моим современникам. Но мне было просто скучно среди них.
Однако же мне предстояло идти в ту самую жизнь, которая должна была окончиться смертию, и, выйдя в эту жизнь, – начать «дело делать»… Какое же дело избрать? Что нужно было от меня людям? Нужно счастие… Могу ли я его дать? Кто его, ранее меня, дал? Никто. Улучшить для других препровождение самой жизни? Уменьшить недуги, нищету? Да ведь вовсе не в этом вопрос… Наибольший счастливец будет все-таки несчастен перед смертию, и наибольший страдалец будет всегда счастлив, если только ему докажут, что его душа не погибнет. А разве я могу это доказать?..
Все это, конечно, само собою отошло в сторону, или, вернее, засело во мне без всякого разрешения, потому что я невольно привязался к окружающему, хотя бы и с недоумением, хотя бы и без радостей.
А вскоре наступила и радость… Я полюбил девушку, увиденную мною однажды из наших окон на улице. Описывать эту любовь я не стану, потому что любовь так же «сильна, как смерть», а я избрал только вторую тему. Скажу только, что с этой минуты жизнь для меня сразу наполнилась и упростилась. Я видел перед собою только одну цель: эту девушку. Моя избранница имела такие же средства, как и я, т. е. жизнь в своем родительском доме и больше ничего. Препятствия между нами казались неодолимыми: я еще не доучился; я не умел ничего зарабатывать; я всегда терялся вне моей семьи; я сам не знал, зачем я живу. Но любовь погнула все эти препятствия, и я поступил по апостольскому изречению: «оставит человек отца своего и матерь свою…» Я бездомничал два с половиною года, ютился у товарищей, голодал, доискивал первого обеспечения и нашел его.
Одновременно с началом моего романа появилась в нашем городе и судебная реформа. Я еще тогда жил у своих. Большой трехэтажный дом «присутственных мест», против собора, всегда имевший вид немого и недоступного здания, вдруг получил для всех такой интерес, как если бы в нем заготовлялось самое любопытное публичное зрелище. Съехалось из Петербурга и Москвы множество новых, большею частию молодых и возбужденно обрадованных чиновников. Печатные книжки «судебных уставов» – в особенности между нами, юристами, – ходили по рукам. Говорили о «правде и милости», о том, что мы теперь услышим настоящих ораторов. В приложении к уставам были напечатаны таблицы новых должностей, и против каждой должности были проставлены цифры чрезвычайно щедрого, сравнительно с прежними порядками, жалования для этих приезжих судебных деятелей. Отец удивлялся, что такие молодые люди, прямо со школьной скамьи, будут получать такие деньги. Он вспоминал свою службу и подумывал о своих сыновьях. Он считал невероятным, чтобы кто-нибудь из нас, а тем более я («рассеянный, способный потерять самое важное дело на улице»), мог достигнуть до получения одного из этих служебных мест.
Открытие нового суда состоялось в верхнем этаже здания на соборной площади. Все там было свежее, выбеленное, лакированное. Судебные залы напоминали театры, потому что в каждой из них была эстрада, обтянутая серым сукном, с красным столом на возвышении, а места для публики были отделены решеткою от сцены суда. Сенатор, т. е. сановник, никогда ранее не виданный в провинции, в своем эффектном пунцовом мундире с богатейшим золотым шитьем, провозгласил после молебствия введение реформы.
Новое судебное разбирательство, когда я впервые его увидел, сидя в густой толпе за решеткою, сразу захватило меня своими торжественными формами и живым содержанием. На моих глазах восстановлялось, во всей своей правде, одно из повседневных людских несчастий, которое нужно было так или иначе разрешить. Судьи казались высоко превознесенными над жизнию, как боги на облаках. Каждому невольно думалось, что они, по самой природе, освобождены от всяких погрешностей и пороков. Все обращались к ним не иначе, как вставая с своих мест, и когда они что-нибудь объявляли, то их определение раздавалось в зале, как приговор судьбы. Общий тон всех воззваний к суду и всех ответов суда был проникнут самым изысканным благородством и самым чистым стремлением к справедливости. Понятно поэтому, что все актеры судебной сцены весьма скоро сделались любимцами публики.
Здесь же впервые возникла и репутация молодого товарища прокурора Кони. Это был худенький, несколько сутуловатый блондин с жидкими волосами и бородой, с двумя морщинками по углам выдающихся извилистых губ и с проницательными светло-карими глазами, не то усталыми, не то возбужденными. На улице, в своей демократической одежде и мягкой круглой шляпе, он имел вид студента, а на судебной эстраде, за своим отдельным красным столом, в мундире с новеньким золотым шитьем на воротнике и обшлагах, – когда он поднимался с высокого кожаного кресла и, опираясь на книгу уставов, обращался к суду с каким-нибудь требованием или толкованием закона, – он казался юным и трогательным стражем чистой и неустрашимой правды. Он говорил ровной, естественной дикцией, не сильным, но внятным голосом, иногда тем же мягким голосом острил, вставлял живой образ, – и вообще выдавался тем, что умел поэтически морализировать, почти не отступая от официального тона.
Судебные деятели входили в моду по всей России. Газеты были переполнены отчетами о процессах. Самые незначительные речи приводились целиком. Шумели новые имена. Повсюду между обвинением и защитой происходили публичные состязания в благородстве чувств, в правильном понимании закона и жизни, в остроумии, в блеске фраз и в постижении тончайших изгибов души человеческой. Прокуратура щеголяла беспристрастием; защита брала изворотливостью и патетикою. Какой-нибудь товарищ прокурора прославлялся за великодушный отказ от обвинения или за освобождение неправильно задержанных арестантов; а рядом с этим адвокат делался героем за искусное вышучивание полиции или за смелую выходку против председателя суда, еще не успевшего усвоить какого-нибудь широкого и человеческого начала уставов. Все это дышало возбуждением и поневоле казалось привлекательным. И потому наиболее художественные натуры из всего народившегося свежего поколения ушли в судебную деятельность. И нужно правду сказать: в судебных речах встречалось в то время более лиризма, психологии и красоты, нежели во всей беллетристике (исключая писателей старшего поколения). Оно и понятно: под сенью Бога, именем Которого клялись на суде, – под угрозою совести, которая была провозглашена основным началом судебного решения, – участники процесса влагали в свое дело весь наличный запас душевной теплоты, всю силу своей затаенной сердечности в то самое время, когда литература тщательно избегала чувствительности и только всеми силами настаивала на важности разных практических нужд.
Это возбуждающее течение отчасти увлекло и меня. Но это было только «аксессуаром» – благоприятною обстановкою. В действительности же для меня в то время существовала только моя невеста, которая наполняла собою весь мир и о которой я день и ночь думал.
Мысль о смерти как-то затушевалась, хотя и не покидала меня совсем. Назову три случая, чуть приметно смутивших мое радостное обращение к жизни.
В обществе моей невесты мне довелось встретить одну молодую девушку из богатой купеческой семьи – свеженькую, миловидную, с белым личиком, красивым бюстом, вздернутым носиком, голубыми глазками и черными волосами, зачесанными от лба гладко, по-китайски. Я видел ее всего раз на танцевальном вечере, когда она плавно двигалась в кадрили, тихая и счастливая, с ямками на улыбающемся лице. Потом я узнал, что она схватила болезнь, сидя на скамейке университетского сада в один из свежих вечеров ранней весны. И я, поглощенный моей любовью, успел только удивиться тому, что в университетском саду, в котором все мы бывали, скрывалась такая ужасная опасность и что все, кроме этой несчастной девушки, как-то сумели остеречься на тех же дорожках сада от неминуемой гибели…
В Харькове проживало одно состоятельное помещичье семейство. Родители были старые, а дети – взрослые. Один из сыновей и его кузен были в мое время студентами. Я дружил с ними и встречался в «свете». Поэтому бывал я и в гостеприимном доме этой семьи, где кузен был только приходящим, как и я. Отец был стриженный высокий старик с красным лицом, длинным носом и глубокими морщинами на лбу. Жена его была маленькая, седая, в блондовом чепце и по большей части в сером платье с длинной пелериной. У них подавались вкусные обеды, велись простые разговоры. Все дети были необычайные, почти седые блондины: двое барышень, гусар, затем мой товарищ и, наконец, младший сын, белобрысый гимназист. Кузен был тоже блондин, но только менее светлой масти, и потому его прозвали в обществе «сереньким», в отличие от его «беленького» двоюродного брата. Говорю я об этом кузене, потому что он мне особенно нравился. Это был скромный юноша с чистым сердцем, недоверчивый к себе, одинокий, всегда тщательно одетый, занимавшийся математикой и музыкой, – словом, грустный идеалист.
В то время когда развивался мой роман, я узнал, что старушка, Глафира Ивановна, заболела и что у нее нашли рак. Я не хотел этому верить и с некоторым страхом навестил ее. Она была еще на ногах, но большею частью сидела на кушетке или в кресле. На ней были тот же блондовый чепец и серая пелерина. Лицо ее, несколько пожелтевшее и присохшее, в сущности, мало изменилось – и я недоумевал, где же это у нее под платьем тот рак, о котором все говорят с отчаянием! Она, по-видимому, не примечала опасности, хотя и жаловалась на нездоровье. А между тем за ее спиною все родные твердили, что ей, по приговору докторов, осталось прожить не более трех месяцев. Я смотрел на нее и думал: «Как это в последующие дни болезнь примется за нее с возрастающею силою и станет ее приканчивать?..» Мне все не верилось, что это непременно случится. И вот весною, когда я совсем перестал думать о Глафире Ивановне, в один из обворожительных солнечных дней, мне попался на улице «кузен» и сказал глухим голосом, с трагическим жестом куда-то в воздух, что вчера она скончалась.







