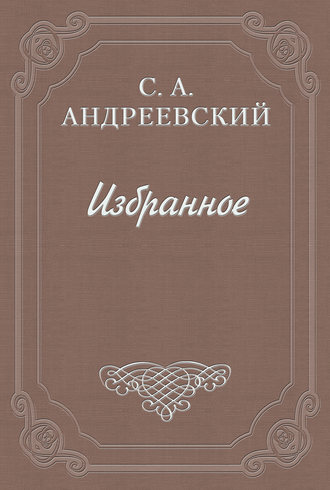
Сергей Андреевский
Книга о смерти. Том I
XIV
Если бы можно было умереть и затем откуда-нибудь издалека любоваться своим исчезновением… Если бы можно было не видеть ни своего трупа, ни ужаса перед ним людей, а только наслаждаться светлыми сторонами смерти, т. е. читать в живых сердцах запоздалую нежность к вам, умиление перед вашей памятью и глубокую тоску о вашей невозвратности… Если бы великий человек, незамеченный при жизни, мог знать о своем величии после смерти… Если бы бессмертному писателю дано было за гробом слышать на долгие века вперед каждое биение сердца его поклонников, – незримо присутствовать на собраниях, лекциях и празднествах, посвящаемых его гениальным творениям, – если бы тень поэта могла встать над его монументом в цветущем парке или на красивой городской площади… Шопенгауэр говорит, будто каждый великий человек «преднаслаждается» своею славою именно в те минуты, когда он создает нечто заведомо бессмертное. «Преднаслаждается!..» Так точно преднаслаждается самоубийца, надеющийся возбудить своею смертию раскаяние и жалость в том жестоком сердце, которое не сумело понять его при жизни.
XV
Наступает осень. Зачастили дожди, но по временам светит и задумчиво-яркое солнце. Воздух бодро свежеет. Осень сравнивают с первыми признаками старости. Что ж! Это верно и вовсе не оскорбительно для осени. Начало старости есть начало непередаваемо милой грусти. Все безвозвратно улетевшее облекается в прелестный призрак, и сердце щемит печальною радостью, издалека любуясь счастливыми минутами жизни. Возможно ли – следует ли – желать их возвращения? И еще неизвестно, что для сердца отраднее: самые ли эти минуты или их отдаленное изображение в безмолвном царстве памяти?
И пускай затем наступает зима, т. е. уже сама старость. Выпадет снег, спрячемся в шубы, съежимся и покоримся, да еще, пожалуй, повеселеем, уподобившись тем старичкам из «Фауста» Гуно, которые бесцветным голоском распевают трогательно-глупую и детски-веселую песенку. Этот хор старичков – самая гениальная и самая правдивая аллегория старости. И в самом деле! Посмотрите на вполне законченных стариков: какое непостижимо ясное настроение. Они себе и в ус не дуют! Смеются, гуляют, кушают, да еще и над молодыми подтрунивают… одна прелесть! Дети и старики – «тех бо есть царство небесное».
Но вот посредине жизни, – когда все силы налицо и все вопросы не разрешены, – да! жутко и больно приходится…
XVI
Я начал писать стихи в тридцать лет. Вот одно из моих первых стихотворений, нигде не напечатанное. Привожу его со всеми его недостатками и с его бедными, неловкими рифмами.
Когда пред пестрою столицей,
Где суетно кишит народ,
Процессия с печальной колесницей
Змеею черною ползет,
Тогда, смутясь о нашей доле,
На гроб косимся поневоле
И с горькой думаем тоской:
«Придет, придет и наше время!..»
А гроб качается немой;
Свое таинственное бремя
Угрюмо лошади везут.
Кругом шумят дела земные
И, молча, до поры живые,
За мертвым смертные идут.
Друзьям, оставшимся в неведении света,
Мертвец не выскажет, хотя он и узнал,
Ошибся ли великий ум поэта,
Который пламенно вещал:
«Со смертию для нас кончается не все,
Могила чудное есть жизни продолженье:
Живя, мы думаем, что падаем в нее, —
Умрем – возносимся на небо в изумленьи»[4].
Простятся навсегда родные с «отошедшим»,
Как каждый миг прощаются они
С своим исчезнувшим прошедшим…
Пройдут года, а для иного – дни,
Цветущею иль темной полосою —
И лягут все они
Под тою же холодною землею,
Куда, с растерзанной душою,
Напрасно истощив сердечные мольбы,
Они покойного, как жертву опустили…
И памяти людской не подарят могиле
Ни надписи, ни плиты, ни столбы…
Поэтому, когда пред пестрою столицей,
Где суетно кишит народ,
Процессия с печальной колесницей
Змеею черною ползет, —
Забудьте, знатные, свое великолепье,
Богатые – свой блеск и нищие – отрепье,
И ты, озлобленный, из сердца удали
Глухую ненависть и черные проклятья, —
И вспомните на миг, что все мы люди – братья,
Что всех равно примут широкие объятья,
Объятья матери-земли.
XVII
В двадцать семь лет я делал попытки описывать природу. В одной заброшенной, почти пустой, тетради я нашел следующие отрывочные наброски, записанные мною с натуры, пока еще длилось самое впечатление:
«Грозовая туча – бледно-зеленая, без теней, как бы насквозь пронизанная лунным светом. Наверху – черный бордюр, сердитый, как насупленная бровь…»
…«Перед дождем. Тишина. Равномерный шум листьев на неподвижных ветвях. Невольно прислушиваюсь: кажется, будто это уже дождь. Но дождя еще нет…»
…«После продолжительной грозы. Все небо светло-серое, ровное, как матовое стекло. Невидный, но слышный дождь, не умолкая, падает на измокшую землю…»
…«Прояснение летней погоды после дождей в деревне. Солнце. Воздух спокоен. Последние светлые тучи, совсем ослабевшие, скрываются за одной стороной горизонта. В другой стороне все чисто. Небо – ярко-синее, с неподвижными, тонкими слоями белых облаков, похожих на песчаные отмели. Из-за пруда, с поля, доносится нежно дрожащее блеяние стада. Слышен запах лип. Желтая пыль цветочков местами присыпала чуть влажную землю».
…«Корова, которую бил овод, нетерпеливо и резко заревела. Этот рев отдался в лесу коротким и резким звуком, как будто ударившись обо что-то далекое…»
…«Домашняя птица: вопросительное гоготание гусей, старушечьи жалобы индюшек, бдительные возгласы петуха, нежное живиканье утят…»
«Петербургское утро в июле. Набережная Летнего сада. Нева синяя и волнистая. По ней, в виде желтых пятен, выделяются обширные барки с березовыми дровами. От гранитного барьера идут ступени к пароходной конторке с вывеской: „На острова“. Молоденькая тоненькая дама в сером летнем платье, с серебристо-серою вуалью, спешит на пароход. На том берегу зеленеют деревья. Вхожу в Летний сад. Дорожки чистые и твердые, как асфальтовая мостовая. Дым пароходов, приносимый ветром, залетает в густые вершины старых лип и, цепляясь за ветки, медленно распускается в сводах аллей».
…«Осеннее утро в том же саду. Свежий воздух кладет на лицо синеватый румянец. При быстром движении чуется мерный ветерок, бьющий по ушам: остановишься – и он смолкает. По чистому небу разбросаны тревожные облака. Все ясно и отчетливо, однако же все, в особенности вдали, будто подернуто прозрачным голубым туманом. Яркие солнечные пятна лежат пестрым ковром на траве под деревьями. Но вдруг трава бледнеет, и пасмурная тень налетает на все сразу: солнечного дня как не бывало, – все померкло, – день серый. И опять вдруг на траве обозначается одна темная полоса, как будто напоминающая ствол большой липы… но вскоре эта легкая тень снова тонет в более густом мраке. А потом, внезапно, когда ждешь и не думаешь, все сразу, весь рисунок света и теней, загорится солнечным блеском на тех же самых местах, как по готовому узору. И опять все ярко и весело…»
…«На Стрелке, в августе. Ни одной души. Над закатом лежит длинная и узкая фиолетовая туча с раздвоенным концом, напоминающим голову крокодила. Солнце еще не начинало золотить небо. Только надо мною в самом верху раскинулось неподвижное облако, легкое и дымчатое, подернутое мутно-красными, как ржавчина, штрихами. Взморье чуть-чуть рябит…»
…«Конец осени. Тонкий лед, сморщенный, как пенка на молочном супе, подернул желто-бурую воду в каналах. Первый мороз, подобный снегу, покрыл короткую покрасневшую траву. В воздухе слышен запах зимы, смешанный с запахом примороженных листьев. Окна сильно вспотели и, пригретые солнцем, покрылись полосками скользящих капель. Сквозь эти полоски яркий, но холодный день глядит в комнаты…»
* * *
На этом заметки обрываются. Я их делал без всяких планов, просто вследствие неудержимой потребности. Но, встретив их теперь, я как бы снова пережил то, что их вызвало. И я вспомнил, насколько природа еще в те годы показалась мне выше всяких описаний. Впоследствии я всегда мучительно молчал, когда слушал разговоры о красотах природы.
XVIII
Природу называют «вечною» (в том числе – и Пушкин). Действительно, она как бы подавляет нас своим припевом: «ты уйдешь, а я останусь». Но это ощущение – обманчиво. Видимая природа настолько же вечна, как и видимые люди. После нас будут новые люди и – новая природа. Сегодняшнее небо никогда не повторится. Деревья – в тех местах, где они растут, – все будут срублены или погибнут. Башни разрушатся, и города исчезнут. И ни единый из толпы, которая течет обильной рекой по тротуарам, не возродится в будущем со всею своею оболочкою: ни одного теперешнего носа, ни одной пары глаз, ни одного платья не останется. Будет вечною только жизнь вообще, но не наша, не современная нам жизнь.
XIX
Когда вы читаете историю, то, не правда ли, какою величественною картиною развертывается перед вами прошлое человечества? Перед вами чередуются великие исторические имена, и, согласитесь, что самые образы этих исчезнувших людей рисуются вам не в обыденной обстановке, а в какой-то фантастической глубине, в особенной воздушной перспективе, как будто вне земли, точно в области сновидения, в невообразимом пространстве без почвы и границ… А между тем все эти люди никуда не возносились. Они топтали нашу землю, и все их подвиги, все создания их гения – с точки зрения физической – совершились в низеньком пространстве над земною поверхностью, не превышающем воробьиного полета. Крыши домов – вот та крайняя черта, за которую никогда не переступала мелкая сутолока нашей истории от ее незапамятных времен.
XX
Пройдет несколько столетий, и смерть Александра II будет изукрашена фантазией…
А вот как она произошла в действительности.
В последние годы царствования Александр II не выезжал и не выходил иначе, как под угрозою смерти. Если он гулял – вся площадь его прогулки охранялась издали, по всем пунктам, невидимыми сыщиками. Выезжал он в карете на лежачих рессорах с пикетом конного конвоя вокруг и с кавказцем на козлах, возле кучера. Процессы о покушениях на его жизнь то и дело разбирались и печатались в газетах. Взрывание поездов, в которых он следовал, стреляние в него на улице, во время его прогулки, и подкопы с динамитом под Зимний дворец и под целую улицу, ведущую к Манежу, – все это уже приучило публику быть наготове, что такие покушения и впредь будут продолжаться. Но случай постоянно выручал государя. Поневоле как-то верилось, что, несмотря на вечное преследование, он каким-то чудом превратился в неуязвимого. Но смерть в том или другом виде, конечно, должна была его со временем постигнуть. А он смотрел еще молодцом, рослый и величественный, мягкодушный и популярный, благодаря прежним заслугам, с поседевшими баками, побледневшим лицом, с выпуклыми голубыми глазами, глядевшими гордо и мечтательно из лучистых морщин. Воспитанный льстивым и сентиментальным поэтом, ставший на ноги под обаянием всемогущего монархического режима своего отца, Александр II любил романическую помпу монархии. Он жил в громадном Зимнем дворце, размножал свою свиту, издавал подробные церемониалы своих дворцовых выходов, бальных шествий, церковных процессий, всяких торжеств среди царской фамилии и, постоянно посещая институты, любил немое обожание девственниц к недостижимой и вечно привлекательной особе царя. Его роман с Долгорукою (также примеченною им в институте) придавал ему значение неувядаемого jeune premier[5]. И часто, когда Зимний дворец горел бесчисленными огнями своих окон, где, в разных концах, помещались и покинутая больная государыня, и пышная свита, и собственные апартаменты запуганного и нервного правителя, – прохожий задумывался над будущими судьбами этого еще величественного в данную минуту, но крайне тревожного царствования…
1 марта 1881 года был довольно ясный холодноватый день. Солнце светило сквозь ровные облака, похожие на легкий туман; земля была сухая и мерзлая. В это число приходились именины гостившей у меня сестры. Я жил тогда в доме Палкина, на углу Владимирского и Невского. С полудня начались визиты. В первом часу один из приехавших сообщил, что был новый взрыв и что государь в опасности. Все как-то печально подумали: «наконец, видно, удалось покушение…» Но все еще не верилось, чтобы царствование было прекращено. Однако, спустившись на Невский, я увидел усиленное движение публики на тротуарах. Говорили, что покушение произошло на Екатерининском канале, по которому государь проезжал после смотра в Манеже и завтрака в Михайловском дворце. Толпа двигалась по направлению к месту преступления. Слышно было, что взорвавшаяся бомба расщепила карету, что государь вышел и что вторичный взрыв поверг его на панель; что его, изувеченного, пришлось отвезти на извозчике в Зимний дворец; что ему оторвало ноги; что по дороге он только успел сказать: «Холодно!»
Я шел за толпою по Невскому. Все сворачивали на Екатерининский канал. Толпа на канале делалась почти сплошною. Пробираясь по узкому тротуару, по линии домов с правой стороны канала, я увидел на месте катастрофы квадратный пикет из Павловских солдат с их высокими колпаками, охранявших один кусочек панели возле чугунной решетки канала. За этой стеною солдат ничего нельзя было видеть. Возбужденно и в то же время безучастно толковал весь этот столпившийся народ. Чувствовалось, что совершилось дело кровавое и непоправимое. Раздавались вести, что государь уже скончался. Услышавшие передавали своим близким и знакомым: «Скончался». Неужели окончилось это царствование? Неужели эта громадная сила, с которою никто из нас не приходил в непосредственное сношение, беспомощно отступила и исчезла?
Мы (я был с родными) повернули назад. На обратном пути к Невскому встречная публика принесла известие, что «Суворов объявил народу на Дворцовой площади о кончине государя». И как бы в подтверждение этого известия, дойдя до Невского, мы увидели карету наследника, окруженную многочисленным конвоем конных казаков в серых шинелях, с пиками, направляющуюся быстро от Зимнего дворца к Аничкову дворцу. Четко стучали копыта лошадей. Парадный выездной казак наследника, в голубом костюме, стоял на запятках. Новый царь с своей женой проносился в этой карете по Невскому, потеряв своего отца, убитого всею этою публикою, которая со сдержанным говором двигалась по улицам. Помнится мне, что в эту самую минуту тонкий дребезжащий колокол учащенными ударами звонил к вечерне в католической церкви на Невском. Я сознавал, что в эти самые секунды, под звуки этих колокольных ударов, при топоте этих казацких лошадей по торцовой мостовой, совершается исторический переворот.
Мы не пошли на Дворцовую площадь. Нам передавали, что желтый флаг Зимнего дворца был спущен в минуту кончины и что народ заполняет площадь перед дворцом сплошною стеною.
К ночи толпа на улицах увеличилась. Население столицы поняло, что свершилось дело нешуточное: свергнуто царствование. Но вся эта масса людей бродила по улицам с праздными разговорами; она сознавала себя только свидетельницею чужой борьбы, она только любопытствовала узнать, что будет дальше. Подпольная сила, сделавшая этот переворот, представлялась всем и каждому более могущественною, чем она была в действительности. Казалось, целый легион тайных борцов где-то невидимо присутствовал, и правительству необходимо было с ним считаться – трусить его, принимать меры… Войска были наготове. Монархия сделалась тем поколебленным знаменем, из-за которого теперь происходила очевидная междоусобная война.
А между тем воображение невольно и постоянно возвращалось к величественному покойнику. Публика знала, что Александр II был мнителен, суеверен и мечтателен; что он привязался старческою любовью к Юрьевской; дорожил своею новою семьею, перевезенною в Зимний дворец; пугался зловещей революционной атмосферы, охватившей его со всех сторон, – и публика следила за его интимной и политической драмой с тем злорадным, до поры до времени, любопытством, которое всегда свойственно постороннему зрителю.
Но вот – царя затравили и сделали наконец безмолвным и бездыханным. И тогда всем стало жалко его. Кроме того, с ним, с этим мертвецом, для каждого опускалась завеса над длинным рядом годов его собственной жизни. Рослый, молодцеватый глава государства, слабодушный и симпатичный преобразователь, всемогущий «помазанник Божий» и т. д., лежал теперь, изуродованный и уничтоженный, в громадном Зимнем дворце. И воображение толпы начинало склоняться на его сторону. Газеты заговорили слезливым поэтическим языком. Передавались легенды, возникшие уже в эти первые дни, – будто ночью, над Зимним дворцом, появился в небе какой-то светлый метеор, в котором народ признал возносившуюся к небу душу государя. Писали, что за несколько дней до кончины Александр II был огорчен смертью одного голубя, заклеванного коршуном на карнизе одного из окон его кабинета. Появились фотографические снимки с умершего: красивая, гладко причесанная голова с завитыми бакенбардами и спокойным, породистым профилем лежала на подушке. Гренадерский мундир обтягивал стройный корпус; маленький образок лежал на груди. Был выставлен и портрет, написанный К. Маковским в первые минуты после смерти: бледное лицо, пышные баки и военная шинель, перекинутая через тело.
Чисто театральное любопытство столичных жителей продолжало поддерживаться тревожным уличным движением, загадками насчет будущего, красивым церемониалом предстоящего погребения, возвещаемого герольдами в оперных костюмах, мелодраматической судьбой княгини Юрьевской, неожиданно потерявшей горячо любящего мужа и улыбающуюся ей корону, – и все инстинктивно направлялись глазеть на громадный Зимний дворец со спущенным флагом, или на место катастрофы. Каждый на углу Невского и Екатерининского канала невольно оборачивался вправо, в уходящую перспективу речонки, где на злосчастном месте уже поднялась маленькая деревянная часовня с луковичкой и крестом. Стены этой часовенки были обвешаны венками, внутри виднелись образа и лампады, но эта церковная будка как будто уже сделала безвкусную и глупую заплату на живом месте, которое – если бы его сохранили в его естественном виде – могло в будущем ясно восстановлять это историческое убийство для отдаленных потомков. Зачем, думалось мне, не оберегали небольшого куска чугунной решетки канала и возле нее тех двух-трех плит, обрызганных кровью, на которых пал Александр II? А теперь канава будет засыпана, церковь задавит своим корпусом это место; ни одного клочка живой обстановки не сохранится, и посетитель храма, блуждая в обыкновенной русской церкви, никогда не найдет в ней того главного, чего бы он искал, – не найдет точно обозначенного и неприкосновенно сохраненного места самого несчастия…
Герольды в черных бархатных пелеринах и шляпах с белыми перьями, на вороных конях, с эскортой жандармов, должны были в разных концах города, с отжившим величием средневековых обычаев, возвестить населению давно известное ему событие предстоящих похорон государя. Мне как-то попался на глаза один из таких герольдов (бритый и стриженый помощник секретаря сената в несоразмерно широкой бархатной шляпе, сползавшей ему на затылок) во время его переезда с одного пункта «возвещения» на другой. Напечатаны были церемониалы фантастически великолепного погребения. В программе значились и «печальный рыцарь», весь в черном, с опущенным забралом, и бриллиантовая корона, и держава, и скипетр, предносимые перед погребальной колесницей первыми, почетнейшими сановниками империи. «Скороходы» и другие, уже непонятные для современного читателя, фигуранты шествия назывались в церемониале. Все это как бы хотело сказать обыденным уличным убийцам: «Вы убили бога». Любопытство к похоронам возрастало, но оно не переставало быть прозаическим. Оно походило на любопытство к первому представлению заманчивой феерии в цирке. Каждый хотел только поудобнее выбрать место на зрелище. Даже извозчики, люди из народа, почти не умилялись. Помню одного из них, который не утерпел высказать мне свои мысли вслух: «Должно быть, и им (убийцам) пришлось плохо, коли на такое дело пошли»… Словом, атмосфера оставалась практическою и трезво равнодушною.
Наступило наконец весеннее, холодное и пасмурное утро «перенесения в Бозе почившего». Я устроился в помещении нижнего этажа Международного банка на Английской набережной, по которой процессия направилась от Зимнего дворца, через Николаевский мост, в Петропавловскую крепость. Процессия двигалась почти в уровень с моими глазами, по кусочкам, стесненная узкой Английской набережной. Из наших окон не открывалось никакого кругозора: видно было поочередно все то, что двигалось между нашими окнами и противоположным тротуаром, упиравшимся в гранитную ограду замерзшей Невы. На этом промежутке шествия уличной публики вовсе не было (она сюда не допускалась), и нам были видны все фигуранты церемонии на чистой примороженной мостовой, как на полу комнаты. Правда, нам не была видна вся лента процессии, но зато все участники ее мелькали перед нами друг за другом, как китайские тени на экране. Всё мундиры, мундиры… цехи, почетные лица, церемониймейстеры на лошадях, знамена, гербы, камер-лакеи, певчие, генералы, иногда – какая-то отдельная маскарадная фигура, которую мы едва могли объяснить себе, теряясь в длинном печатном церемониале, – потом опять мундиры, звезды, ленты, – бесчисленное множество золотых подушек с орденами, – вот бриллиантовая корона, – кажется, скипетр и держава, – толпа архиереев – и вот вся золотая, громадная колесница с балдахином, почти сплошь наполненная генералами, которые заняли все ступени катафалка… Из-за них чуть видны цветы венков и золото гроба, покрытого порфирой. Толпа отборной Романовской фамилии – все рослые, – военные, всем знакомые по портретам, – в мундирах с иголочки, – густо идут, как солдаты вокруг колесницы, за которою шагает крупный и грустный новый государь. Затем цепь траурных карет с царственными дамами… какое-то пение… какая-то музыка. Уже и смотреть не на что, а все еще процессия тянется – и долго тянется.
Между тем, спустя некоторое время, золотая колесница показалась уже почти в конце Николаевского моста, почти на противоположном берегу. Она покачивалась и уплывала – мимо Академии – туда, к шпилю Петропавловской крепости… Прощай, целая эпоха!







