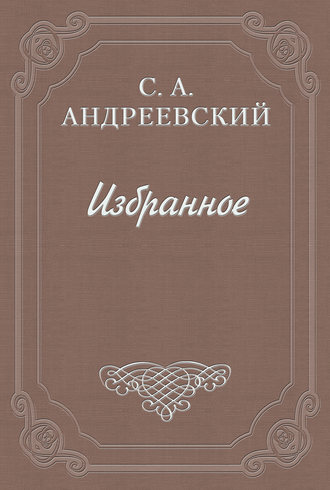
Сергей Андреевский
Книга о смерти. Том I
Он говорил, что сцена смерти была потрясающая, что умирающую вынесли на кровати в залу, что вокруг нее многочисленные родственники плакали, стоя на коленях, а она со стонами слушала отходную молитву священника и тускнеющими взорами со всеми прощалась… «Это было величие, ни с чем не сравнимое!..» – заключил он тем же глухим голосом, с глазами, полными слез, и с безутешным выражением лица. И, крепко пожав мою руку, он пошел к себе домой с опущенною головою.
Я был в церкви на выносе тела. Вечернее солнце ярко горело и врывалось в храм с тлеющим весенним воздухом, который приливал пахучими волнами из широко раскрытых дверей. У меня в кармане было письмо от невесты. Ни восковая голова Глафиры Ивановны, ни вопли погребального звона, ни прощание с телом траурной толпы родственников не удержали меня от того, чтобы по выходе из церкви тотчас же, на улице, вынуть из кармана драгоценный листок и впиваться с радостью в каждую букву. Сердце мое прыгало от счастья, и какая-то всемирная, бессмертная теплота жизни внятно говорила мне, будто все виденное мною нисколько не может омрачить моего личного будущего…
Я уже говорил, что мне приходилось ютиться у товарищей. В это трудное время однажды мне пришлось поселиться у серенького кузена. Он занимал комнату в квартире одного из нотариусов. Мы постоянно слышали, во все часы дня, свирепый, неотступный кашель за дверью. Больной задыхался в напрасных натугах отхаркаться. Этот больной был сам нотариус. Он давно уже не вставал с кровати. Иногда был слышен его слабый разговор – два-три слова, не более; видно было, что его единственное занятие состояло теперь только в том, чтобы лежать и кашлять. Он умер как-то ночью, когда мы оба молча читали при лампе, каждый порознь, свои записки. За дверью послышалась тихая беготня, а затем раздался жалобный, испуганный плач разбуженных детей. Когда мы встали на другой день, то дьячок уже читал псалтырь над умолкшею жертвою беспощадного кашля. Рассказывали, что утром в день своей смерти больной почему-то выразил желание сбрить бороду, отросшую у него за последние месяцы… Помнится, мне было особенно странно, что покойник был «нотариус» и что в этом именно звании он переселился в жизнь вечную…
Вот и все печальные случаи, пробегавшие легкими тенями в те дни над моею жизнью.
После долгих мытарств я через год по сдаче выпускного экзамена получил наконец место по рекомендации Кони, который в то время был уже переведен в Петербург. Его депеша о том, что я «назначен», застала меня в одном из моих скитальческих приютов. Это было для меня полною неожиданностью. Я был как в бреду и невольно прослезился, истомленный молчаливою безнадежностью. Неужели это правда? Неужели там, где-то вдалеке, без моего ведома, кто-то спас меня еще несколько дней тому назад, и спас, вероятно, навсегда? Значит: я теперь – власть!.. Уже от меня зависят люди и еще не знают об этом… И вот какое-то важное чувство тотчас же подняло меня в моих собственных глазах, и я по-детски радовался тому, что я все-таки намерен быть милостивым, простым и скромным. Сердце мое трепетало от сознания какого-то большого выигрыша в жизни. Эта удача отражалась и на обращении со мною всех тех, кто узнал о моем назначении. Я осязательно чувствовал на себе какое-то «помазание», но тем более выказывал добродушия в сношениях со всеми. И когда я лег спать, то мне казалось, что даже моя комнатка в безмолвии ночи относится с особым почтением к тому пространству, которое занимаю я, я – чиновник, лицо, которое может что-нибудь подписать вот этою самою рукою, засунутою под подушку, – и ничего не поделаешь: нужно будет покориться…
Но главное: теперь была достигнута мечта сердца. Неужели я женюсь? О, как я был измучен!.. Я был так измучен, что мною наконец овладело равнодушное, тупое утомление, и я только сказал себе: да, вероятно, будет счастье.
И то, что казалось для меня безумным предсказанием в начале этой главы, случилось на самом деле. Я поехал в Петербург, куда еще задолго перед тем переселилось семейство моей невесты, и женился. Свадьба была скромная, но изящная. Моим шафером был Кони, и когда, после венчания, он чокался с моею новобрачною, он сказал ей: «Желаю вам столько счастливых дней, сколько искрится пузырьков в этом бокале».
Моя подготовительная жизнь была окончена, началась жизнь деятельная. Образовалась моя отдельная семья, мой дом. Пошли дети…
И вот теперь эта жизнь начинает сворачиваться к концу… Как все это случилось быстро и как было ничтожно… Все биографии, еще в детстве, когда я читал Плутарха, были мне отвратительны своею однообразною развязкою. Еще моя жизнь прошла хоть несколько на виду: мое имя попало в печать. Но разве это что-нибудь значит?..
Мне кажется, здесь можно прервать историю моей души. По истечении двадцати с лишком лет я могу сказать:
«Каков я прежде был, таков и ныне я».
Быть может, этот пробел в биографии со временем пополнится воспоминаниями. Но мне иногда представляется, что все, что я до сих пор сделал, косвенно годилось лишь для того, чтобы я имел некоторое право написать эту книгу.
Буду записывать мысли, текущие события, воспоминания – и все в той же окраске вечного вопроса – вечного призрака смерти.
Часть вторая
Задумал я эту книгу в 1891 году и тогда же написал предисловие. Но оно еще долго оставалось в пустой тетради, и только в следующем году я уже начал заметки, которые помещаю ниже. Этим заметкам я нашел нужным предпослать законченные здесь пять глав.
I
Когда бываешь на улице, при свете солнца, среди людей, или сидишь в комнате и разговариваешь и осматриваешься вокруг, то иногда вдруг скажешь себе: «Все это прекрасно… Но на какой собственно сцене все это происходит?.. Как это мы на нее попали и как выйдем? И как это все нарисовать себе, чтобы ясно определить свое положение во Вселенной? Известно, что Земля только песчинка среди прочих миров, которые тянутся от нее во все стороны до бесконечности. Но нам-то до этого никакого дела нет. Откуда-нибудь, конечно, видно, что все мы неприметно ничтожны, но у нас на земле есть свое величие – дворцы, парламенты, цари, гении… Что же это такое? Наваждение? И где же умерший? Под нами, над нами – или нигде?..»
И когда обо всем этом подумаешь, то вдруг, в течение нескольких секунд, на душе сделается так странно и неловко, что хоть с ума сходи.
Один ученый очень просто определил это состояние: он его назвал «изумлением перед собственной психикой».
II
Представим себе, что где-то на свете прожило тридцать столетних старцев, из которых каждый предыдущий умирал в день рождения последующего. Сложив вместе их жизни, мы получим три тысячи лет, т. е. углубимся в самую далекую-далекую древность, более чем за тысячу лет до Рождества Христова… Всего тридцать человек – и уже почти не видно истории…
III
В прежнее время, когда умирал мой знакомый, то самый день, предназначенный для его смерти, самая минута его кончины, получали для меня особое, роковое значение. Мне думалось: «Итак, он умер двадцатого марта, в понедельник, в семь часов вечера… Вот она, минута, издавна ожидавшая его и которой он никогда не знал. Этот час во всю жизнь не смущал его; он не подозревал, что именно на этом положении стрелки застигнет его смерть; понедельник ничем не отличался для него от других дней; и даже двадцатое марта не вызывало в нем никакой перемены. (Я помнил ясно, как он провел этот день в прошлом году). А если бы он знал?..»
Для каждого из нас есть такое число, и день, и час, и минута.
Праздные мысли. В природе нет чисел. Календарь выдуман людьми. Прошлое проходит, время идет вперед – вот и все. Дни не повторяются, и они, сами по себе, не могут праздновать своей годовщины, потому что ни один из них не видал себе подобного. Все похожее и, однако же, все новое, новое, новое – никогда еще небывалое – творится в мире.
IV
Еще пугали и огорчали меня такие мысли: ведь вот где-нибудь уже есть дерево, которое пойдет мне на гроб? Где оно? Растет ли еще в лесу или уже распилено на доски? На какую отвратительную близость мы оба с ним осуждены. И, однако, мы друг друга не знаем. Или: гробовщик, который снимет с меня мерку, – ведь он уже есть, он где-то ходит, этот мужик… И материал на уродливые мертвецкие башмаки уже давно готов. И все это от меня где-то спрятано…
Но это уже совсем вздор. Все это можно себе заранее приготовить по примеру схимников или Сары Бернар… Наконец, есть сожжение трупов… Наконец: не все ли равно?..
V
Зачем на окоченелые трупы надевают костюм живого человека? Что может быть прискорбнее и бессмысленнее мертвой руки, всунутой в накрахмаленный рукавчик? Не гадки ли все эти сюртуки и брюки, распределенные по различным ямам Волкова, Митрофаньевского, Смоленского и других кладбищ? Смерть так противоположна жизни, что она вопиет против всякого навязывания ей житейских принадлежностей. Естественен только нагой мертвец – такой, каким он родился.
VI
Статуя поэта на площади города, портрет умершего писателя в окне магазина всегда с каким-то жутким чувством заглядывает в душу, еще волнуемую горестями, тревогами и противоречиями жизни, злобою или радостью текущего дня. Их головы кажутся живее всего живущего. Влюбленная чета останавливает на них с дружелюбным чувством свои счастливые взоры и на миг заглядывает в вечность… Человек, близкий к самоубийству, встречая их образ, невольно бледнеет от страха перед своим ничтожеством.
VII
На похоронах великих людей – например, Виктора Гюго, Достоевского, Тургенева, – их близкие и друзья должны были испытывать странное отупение перед этим океаном толпы, который заливал их личное горе своими волнами. И, быть может, эта бесчисленная толпа вызывала в них ропот небывалой ревности от сознания, что покойный, в сущности, вовсе им и не принадлежал…
VIII
Помню, как однажды, потрясенный известием о кончине дорогого человека, я должен был вечером куда-то съездить и сел в конку. Сырой ветер пахнул в дверь вагона; кондуктор, при свете лампочки, оторвал мне билетик с розовой катушки; на билетике был напечатан номер и еще какое-то правило мелким шрифтом. Я закутался от ветра; я посмотрел на свой номер и прочел правило; мне был неприятен запах керосина в тусклой лампочке кондуктора. Но я содрогался именно от того, что я во всем этом так привычно разбирался. А между тем: что такое ветер? номер? лампочка?..
Если бы можно было спросить об этом мертвую голову?
IX
В другой раз я ехал в кресельном вагоне первого класса. Мы плавно неслись. Ковер был у нас под ногами; газ приятно светил сверху. Вблизи меня красивый старик, приколов подсвечник к бархату стены, читал книгу и умно улыбался; румяный заграничный коммерсант дочитывал перед сном плохо напечатанный немецкий листок. На сетчатых полках лежали наши вещи.
И вдруг мне подумалось, что мы неприметно можем раздавить какого-нибудь самоубийцу или пьяного пешехода. Это будет делом одной секунды. До этой секунды – если бы как-нибудь удалось предотвратить катастрофу – и этот несчастный понимал бы все, как и мы понимаем. Но – после! Чемоданы, пледы, папиросы, буфеты станций, наши замыслы, наши самодовольные разговоры, дама, едущая к мужу, политика Германии… Да, всего только один толчок под нашим ковром…
X
Жизнь и время – одно и то же. Только смерть не знает времени. Только сосчитав время, можно судить и видеть, как неустанно, неприметно и постоянно работает жизнь… Оглянитесь назад: как все изменилось! Вы привыкли к тому, что заведенный порядок как будто уже вошел в колею, да таким и останется… Какое заблуждение! Все у вас понемногу отнимается, все чистится, переменяется.
Но всего горестнее в этой неустанной смене старого, в этой погоне за новым, что сам себя начинаешь находить прискучившим. Иногда чувствуешь, что твой голос, твой язык, твои взгляды, твоя оценка людей и жизни, твой своеобразный и для других интересный гений, твоя внутренняя, неслышная речь к миру, – все это тебе самому уже не по вкусу, что ты готов бы переменить самого себя, в угоду суете обновления… И опечаленное, пристыженное сердце, из своей недостижимой глубины, с горечью спрашивает: что же делать?.. Куда деваться?..
XI
Во сне происходят со мною события совершенно невероятные, и однако я ими нисколько не смущаюсь. У меня нет ни угла, ни близких, ни семьи: мне все равно. Но мои основные свойства – все налицо. И мне точно дана какая-то льгота обнаруживать их без всякого стеснения. Покойники оживают, и у меня остается к ним теплое чувство, вполне соответствующее моей затаенной привязанности к ним. Какая-то неведомая женщина вдруг угадывает все мои вкусы – и сердце бьется любовью к ней, хотя бы наяву у меня были другие, незаменимо близкие женщины. Самые нелепые положения никогда, однако же, не расходятся с моим сердцем. Сновидение слагается мучительно – и тогда я страдаю вдвое: я забываюсь от стыда, горя, бессилия. Но если оно мне благоприятствует – то я получаю непередаваемые радости: я достигаю всего, что люблю.
Из этого можно было бы вывести великую мораль: не будьте узки; будьте свободнее от повседневных пут вашей жизни. Но берегите в чистоте свое внутреннее чувство и оставайтесь верными ему. Только оно одно и остается в вас живым. А оно, это затаенное чувство, всегда бывает чистым у каждого: вспомните только все ваши невольные слезы, остающиеся на ваших глазах при пробуждении.
XII
Сколько бы ни думалось нам, что все горестное проделывается, только с другими, а что вот я и мои близкие никогда этому не подвергнемся, но все то же происходит решительно со всеми в свою очередь. И странно, до чего просто миришься впоследствии с тем, что прежде казалось невозможным.
Старик… Право, глядя со стороны на стариков, казалось, что это какие-то загримированные карикатуры на сцене жизни. Чтобы когда-нибудь пришлось и самому дойти до такого внешнего вида (совсем белые волосы, резкие, отвислые морщины, ввалившийся рот, очки, горб) – да это представлялось невозможным.
Мало того. Вот уже почти ваш сверстник – здоровый и веселый человек – жалуется вам, например, что его зрение ослабело, что он плохо видит вблизи, видит нечто неопределенное и – не разбирает… А вы смеетесь. Вы думаете, что это мнительность или предрассудок. Вы совершенно уверены, что ваши собственные превосходные глаза уже никоим образом не вздумают сделать вам подобную каверзу.
И вдруг, совсем для себя незаметно, вы начинаете не то что хуже видеть, но как будто утомляться от печатного шрифта. Вы отдаляете книгу больше и больше, и все это считаете пустяками: «Захочу – и все разберу вблизи». Однако же от подобных усилий каждый раз утомляется голова… Наконец, выдаются такие вечера (должно быть, погода дурная или лампа плохо светит), что при чтении почти ничего не разбираешь. «Надо полечить глаза», – думаете вы. Доктор спрашивает: «А сколько вам лет? – и, узнав, что перевалило за сорок, говорит: Глаза у вас здоровы; нужно надеть очки».
Да, очки. И надеваешь их. И – ничего!
А молодые, встречая вас поседевшим и в очках, находят, что вы уже принадлежите к совершенно особому племени, которое устроено лишь для того, чтобы они, молодые, смотрели на него издали, но никогда сами в него не попадали.
XIII
Теперь умирает человек, для меня привычный, как пальцы моей руки: дядя моей жены, Чаплин. Он уже давно стар, но я его считал в кругу живых на бесконечное будущее вперед, настолько он был крепок, здоров и, казалось, необходимо близок к нашему дому. Лицо у него – круглое, бритое, с гладенько причесанными седыми волосами; выражение – приветливое. Говорит он успокоительным густым баском. Деликатен и услужлив до бесконечности. Живет в нежной покорности, уже в течение сорока лет, с женою, такою же здоровою, как и он сам.
Он где-то простудился, сильно лихорадил и кашлял несколько дней, а теперь уже прощался с близкими и приобщался. Я впервые видел это церковное погребение заживо и, как все присутствующие, держал зажженную восковую свечу, в то время как священник стоял у кровати и отправлял службу с молитвенником в руках. Кретоновая занавеска, за которою обыкновенно скрывалась супружеская спальня, была отдернута. Больной смотрел на священника с своей подушки. Он относился к этому последнему напутствию с невероятным добродушием и без всякой видимой тревоги. Легкий бред обратил для него потрясающий обряд в нечто простое. Жутко было слышать, как он по-ученически, как автомат, стеная и пропуская от слабости некоторые слова, повторял за священником причастную молитву и, полузакрыв глаза, кончил ее последние слова («и в жизнь вечную») чуть внятным шепотом: «вечн…» Священник что-то ему сказал о значении молитвы, и он, полусонный, отчетливо сумел произнесть:
«Да-да… Молитесь о нас, грешных, а мы… а мы… о вас молиться будем».
И сейчас после того, с чисто детским неведением о значении происшедшего, он спросил сына: «А когда же другие будут приобщаться?» (Его уверили, что все почему-то намерены приобщаться). Не выжидая ответа, больной окончательно забыл всю эту сцену.
Еще день. Бред его не покидает. Человек и в здравом состоянии мыслит отрывисто, перескакивает без видимой причины от одного впечатления к другому. Но как гадко видеть этот тайный процесс обнаженным для постороннего уха… Все мысли – вслух! Какая утомительная, жалкая работа! Больной усиливается запомнить какой-то адрес… Потом восхищается природой, чистым воздухом… Потом шутит насчет отсутствующего брата… И все подряд, без умолку… Нестерпимая сумятица мыслей! Но иногда приходится подслушать нечто изумительное. Так, например, я был один в комнате, когда умирающий пробормотал:
«Ох, скверно! И здесь оставаться нельзя – и туда не хочется…»
Спрашивают доктора, скоро ли конец и как именно он должен случиться? Тот отвечает, что «пульс еще не зачастил»; что еще не наступила «так называемая агония», а какова она будет, длинная или короткая, ответить нельзя. Смотрят родные на этого живого человека в белой ночной рубашке, слышат его еще живой голос, отрывки его слов, и у всех щемит за него сердце, всем больно, что в этом ноющем теле готовится и произойдет «так называемая агония».
Сегодня он бредил до потери голоса, стал холодеть с утра, забываясь все более и более, и однажды, перед вечером, когда в незначительном приступе кашля, его хотели перевернуть, чтобы облегчить отделение мокроты, – он оказался уже задохшимся.
Я зашел навестить больного и оказалось, что он только что умер. В этот день (31 мая 1891 года) я утром защищал в суде Ольгу Афанасьеву, оттуда поехал на юбилейный обед Спасовича и сказал речь юбиляру, а с обеда попал в квартиру Чаплина на первые минуты после его кончины. Его лицо было закрыто. Вдова стояла возле его кровати, над безмолвным телом, с наклоненною головою, без слез, – словно окаменела в религиозном смирении перед этою непостижимою развязкою ее сорокалетней жизни с умершим.
В Петербурге в квартиру больного еще во время его болезни наведываются гробовщики. Это большею частью раздражающе здоровый и юркий народ. Они действуют быстро и бездушно. Положение во гроб совершается почти всегда на первой вечерней панихиде. Близких стараются удалить из комнаты, где лежит покойник, двери в нее затворяются, и там, внутри, слышится спорая, ловкая работа. Хор певчих причитает какой-то однообразный, поспешный и тихий речитатив, точно делается нечто воровское… Не пройдет и двух минут, как уже можно видеть мертвеца в гробу, на своем месте. Двери отворяются: все сделано удобно – не угодно ли полюбоваться?
Так было и здесь, на следующий день после кончины Чаплина, на вечерней панихиде. Со времени детства (а мне уже было за сорок) я еще никогда ранее так не вдумывался в каждое слово обрядных молитв над умершим.
«Прости ему, Господи, согрешения вольные и невольные… Яко несть человек, иже будет жив и не согрешит, Ты бо Един кроме греха, правда Твоя – правда во веки – и слово Твое – истина!»
Это заунывное указание на величие «правды вечной» перед суетой повседневной жизни смутило меня ужасно…
«Подаждь ему, Господи, вечный покой!..»
Мне это показалось лишним. Теперь уже нечего просить о покое. И без того покой слишком глубок. Скорее можно было бы просить у Бога как некоторого чуда, чтобы умерший хотя бы чуточку пошевельнулся или обнаружил хотя бы самые туманные признаки сознания…
«И сотвори ему, Господи, – вечную память!»
Среди присутствующих находился, между прочим, поэт Полонский (сослуживец Чаплина по Кавказу), вошедший на костылях и стоявший у дверей. И когда после службы все расходились, он мне сказал: «Я не понимаю, зачем это поют: „вечная память!“ Что это? Ирония?..»
Когда все мы вышли на воздух, то на улицах Петербурга, несмотря на позднее время, было светло как днем. Нет! милее, чем днем: это была теплая «белая ночь».







