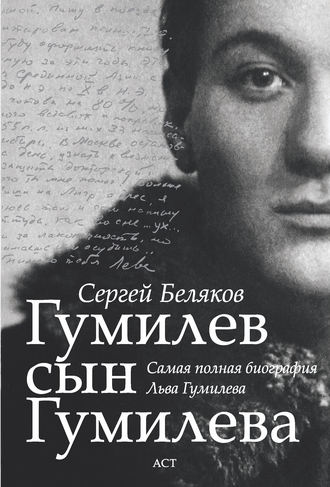
Сергей Беляков
Гумилев сын Гумилева
«Я был один под вечной вьюгой…»
Свой первый срок Гумилеву предстояло отбывать в одном из самых северных советских лагерей, за Полярным кругом, где лесотундра, последний форпост сибирской тайги, переходит в настоящую тундру, которую Гумилев позднее станет уподоблять своей любимой степи.
Биограф семьи Гумилевых Владимир Полушин датирует начало норильской каторги августом 1939-го, но эту дату принять нельзя. 10 августа Ахматова и Чуковская навещали Гумилева в пересыльной тюрьме, 14 августа они собирали для Льва теплые вещи. Значит, его отправили по этапу только во второй половине августа. Путь до Красноярска должен был занять около недели или по меньшей мере дней пять. В Красноярске Гумилев узнал о пакте Молотова – Риббентропа, значит, этап прибыл туда не раньше 23 августа 1939 года.
Из Красноярска начинался путь по Енисею до порта Дудинка. Он занимал три-четыре недели. Зэков загоняли в «трехэтажный» (нары в три яруса) трюм речной баржи, первый, самый светлый, этаж всегда занимали уголовники. Так им было удобнее контролировать раздачу пайки и баланды. Политические («контрики») лежали вповалку на нижних «этажах», в почти полной тьме. Баланду им разносили при свете керосиновых фонарей «летучая мышь». Впрочем, обстоятельства этого гумилевского этапа неизвестны. На красноярских баржах, случалось, вместо баланды спускали в трюм только хлеб и соленую рыбу, так у конвоя было меньше хлопот.
До параши добирались по телам других зэков, баржи были переполнены. Параши выливали в Енисей, и оттуда же, из Енисея, брали воду для зэков.
Дудинки достигли, скорее всего, только к концу сентября. Здесь зэков ждали даже не красные «телячьи» вагоны, но открытые железнодорожные платформы. Железная дорога тянулась на 102 километра к востоку от Дудинки, к построенному несколько лет назад городу Норильску. Стояла приполярная осень, с Карского моря дул влажный и холодный ветер, вскоре он принесет холодный дождь, а затем и снег.
Норильск встречал зэков не только холодом, но и болезнями. В городе была эпидемия дизентерии. С холодами она не пошла на убыль. Напротив, возросла смертность. Мертвецов не успевали выносить: «Трупы складывали штабелем вдоль торца больничного барака, как дрова». Гробов не хватало, поэтому начали хоронить без них, а затем додумались оставлять покойников и без одежды – не пропадать же добру. Их одежда еще пригодится живым, способным приносить пользу советскому государству.
ГУЛАГ во всей красе? Пожалуй, но вот что примечательно. Гумилев оставил воспоминания о своей лагерной жизни в Норильске. Читаешь и только диву даешься – как же хорошо ему жилось в предвоенном Норильске, будто и не каторга, не заполярный исправительно-трудовой лагерь, а в худшем случае дисциплинарный дом творчества. А как поэтично Гумилев описывал природу советского Заполярья!
Из воспоминаний Льва Гумилева о Норильске: «К северу от будущего города Норильска расстилалась тундра, т. е. полярная равнина, простиравшаяся до реки Дудыпты и озера Пясина. Осенью тундра тонула в снежном сумраке, зимой – в синей полярной ночи. В природе абсолютной темноты не бывает. Луна, заезды и разноцветные отблески полярного сияния показывают человеку, что он на Земле не одинок и может прийти куда-нибудь, где есть яркий свет и печка – самое дорогое для изгнанника в Заполярье. И всё же равнина безрадостна и тосклива. Зато южная окраина будущего Норильска – цепь невысоких гор – поистине очаровательна. Эта горная цепь начинается столовой горой с необычным названием Шмидтиха (Shmidtiha). <…> Восточный склон Шмидтихи омывал Угольный ручей, чистый, быстрый и шумливый. А за ним располагалась гора Рудная, бывшая в то время сокровищницей Норильска. В середине склона гору прорезала штольня, тянувшаяся вдоль серебристой жилы халькопирита. Эта штольня казалась нам блаженным приютом, ибо в ней была постоянная температура минус 4. По сравнению с сорокаградусными морозами снаружи или мятущейся пургой, сбивающей с ног, в штольне рабочий день проходил безболезненно».
Многое объясняет характер Гумилева. Лев Николаевич отличался природным (отцовским) оптимизмом, о своей жизни, даже о самых трагических ее моментах, говорил с улыбкой. О кошмаре лагерной жизни старался не воспоминать. Однажды он заметил, что очень уважает Солженицына, потому что тот смог написать «Архипелаг ГУЛАГ». «Мне, – передает слова Гумилева жена Наталья Викторовна, – даже вспоминать это всё не по силам». Первые месяцы Гумилев был на общих работах, терпел голод, мороз и «пургу на открытом месте». Но все-таки Гумилеву повезло. Норильлаг не был самым страшным островом архипелага. Эпидемия дизентерии осенью 1939-го – скорее исключение. Правда, Гумилев «перенес дизентерию и не помер, хотя был без сознания 3 дня», но это было летом 1940-го. А вообще-то смертность в Норильлаге была в пять раз меньше средней гулаговской.
В 1939-м спешно достраивали Норильский горно-обогатительный комбинат, который скоро начнет поставлять необходимый военной промышленности никель, а помимо него – медь, кобальт, платину. Начальству нужны были новые рабочие руки, а не новые братские могилы, поэтому в Норильлаг отбирали людей преимущественно нестарых и здоровых, условия им создавали, по меркам ГУЛАГа, сносные – пусть строят комбинат, добывают руду – халькопирит, дают стране металл. Строительством комбината руководил бывший директор Магнитки, будущий дважды Герой Социалистического Труда и лауреат Сталинской премии Авраамий Павлович Завенягин. Он был в Норильске неограниченным монархом, всесильным государем – Завенягин управлял и комбинатом, и лагерем[16].
Завенягин не был революционером-мечтателем, вроде основателя Дальстроя Эдуарда Берзина (Берзиньша), который всерьез надеялся перевоспитывать «врагов народа» на колымских приисках. Завенягинские порядки преследовали одну цель – построить комбинат и наладить его работу. Поэтому даже простых лагерных работяг кормили прилично: на обед давали миску баланды, миску каши и даже кусок трески. Хлебная пайка, рассказывал Гумилев, была довольно большой – 1 килограмм 200 граммов за полную норму выработки, 600 граммов «за недовыработку», 300 (карцерная пайка) – «за неудовлетворительную работу». Для сравнения: в годы войны хлебная пайка иждивенца в Нижней Тавде (Западная Сибирь) была всего лишь 200 граммов. В Москве иждивенцы получали 400 граммов, а рабочие – 800. Правда, московский хлеб был, конечно, намного лучше норильского или тавдинского.
Инженеры-зэки получали в Норильлаге селедку и сгущенку, что уже приближалось к рациону шарашек. В геологоразведочных экспедициях, снаряженных силами Норильлага, паек был еще лучше: масло, шоколад, сухое молоко. Правда, и работать заставляли много: «Когда возникала необходимость выполнения срочных работ, – вспоминает старый лагерник Александр Гаевский, – нас оставляли работать ночью и при этом обильно обеспечивали продуктами дополнительно к лагерному рациону».
Вольные жили, разумеется, намного лучше. Они получали большие северные надбавки, длинный (полгода) оплачиваемый отпуск, путевки в санатории. Начальники жили по-барски – с прислугой из женщин-заключенных, с особым рационом. Озера вокруг города-завода, еще не испорченные отходами производства, кишели рыбой, и специальная бригада зэков-рыболовов поставляла на стол норильского начальства осетров, муксуна, хариуса.
Глазами барона Мюнхгаузена
Помимо воспоминаний Гумилева, о его жизни в Норильске мы можем узнать еще из нескольких источников. Они настолько противоречат друг другу, что перед биографом неизбежно встает вопрос: кому же верить? Льва Гумилева упоминает в своих мемуарах Дмитрий Быстролетов, сидевший в Норильлаге в 1939– 1940-м. Будто бы они с Гумилевым однажды выносили из барака мертвого зэка. На мемуары Быстролетова опираются член Красноярского отделения общества «Мемориал» Д.В. Полушин и доктор исторических наук, один из основателей Европейского университета Л.С. Клейн, давний критик Гумилева.
По словам Быстролетова, Гумилев был в Норильлаге настоящим беззубым доходягой, жил в бараке «самых отпетых урок», спал под нарами, всячески унижался зэками и вообще «имел унизительный статус чумы[17]». При этом он умудрялся заниматься научной работой – писал диссертацию «на тему “Гунны”», а рукописи хранил в особом деревянном седле (!), которое зачем-то таскал на спине: «Это была патетическая фигура – смесь физического уничтожения и моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства… Он был наследственный, хронический заключенный, сидевший и за отца, и за свой длинный язык… Человек он был феноменально непрактичный, неустроенный, с удивительным даром со всеми конфликтовать. Поэтический ореол отца и матери и в лагере бросал на него свет, и все культурные люди всегда старались помочь ему вопреки тому, что он эти попытки неизменно сводил на нет».
В этой характеристике много напутано. Никакой «диссертации» о гуннах Гумилев в Норильлаге не писал. Более того, его кандидатская и докторская были посвящены истории Тюркского каганата. Книгу о гуннах, которая в черновике называлась «Древняя история Срединной Азии», Гумилев начал лишь десять лет спустя. А тогда, в 1939–1940-м, он еще не успел защитить диплом!
Но самое главное, Гумилев при всём желании не мог бы написать в норильском лагере диссертацию или научную статью. Что этого не понимали Быстролетов и Полушин, еще можно допустить, но как же быть со Львом Клейном? Он ведь и сам сидел в лагере. В лагере можно сочинять пьесы и стихи, писать прозу, можно даже обдумывать новую научную теорию, если есть время и силы. Но диссертация или статья требуют совершенно иных условий работы. Прежде всего необходимы источники и научная литература, а в библиотеке Норильлага нужных книг не было.
В пятидесятые годы Гумилев сможет начать работу над «Хунну» только потому, что в его распоряжении будут русские переводы китайских хроник, монография Г.Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край» и другие книги, присланные ему Ахматовой, Герштейн, Варбанец, профессором Кюнером. В предвоенный и военный Норильск посылать книги было невозможно. Ни в одном из источников, кроме мемуаров Быстролетова, нет упоминаний о лагерной работе Гумилева над диссертацией. Ни разу не писал об этом и сам Гумилев.
Правда, в 1945 году Гумилев напишет Н.В. Кюнеру о своих лагерных попытках заниматься научной работой: в Норильске он читал сочинения Э.Тэйлора, Л.Я. Штернберга, а после освобождения уже под Туруханском «собирал фольклорный демонологический материал среди тунгусов и кетов». Кроме того, Гумилев упомянет вскользь и о своих «оригинальных выводах по поводу этногенеза». О гуннах же – ни слова.
Был ли он доходягой? Сергей Снегов оставил интересные воспоминания о своей дружбе с Гумилевым. В его рассказе много живых и, в отличие от быстролетовского «деревянного седла», достоверных подробностей.
Снегов писал, что летом они с Гумилевым любили отдыхать на берегу Угольного ручья, закрыв лица полотенцами (от «сатаневших» комаров), и спорили на животрепещущие темы: «выше ли Каспар Шмидт… Фридриха Ницше и есть ли рациональный смысл в прагматизме Джеймса Льюиса…»
Однажды зэки устроили лагерный турнир поэтов, который, к неудовольствию Гумилева, выиграл Снегов. А позднее оскорбленный Лев, придравшись к трактовке Снеговым образа пресвятой Богородицы, даже вызвал товарища на дуэль.
Столь насыщенная интеллектуальная жизнь просто невозможна для доходяги. «Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чем подумать, ни о чем заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны – о еде, и бессонница – о еде. И скоро – одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться: человек превращается в прямоточную трубу, и всё выходит из него в том самом виде, в каком заглотано. <…> Доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. <…> Они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. <…> Потом эти отбросы они моют, варят и едят», – подтверждает Александр Исаевич Солженицын.
Первый лагерь – самое страшное, ломающее душу испытание – Гумилев выдержал с честью: «…он вел себя там идеально», – вспоминал Душан Семиз, старый узник Белбалтлага. Норильск был уже вторым и не самым страшным для Гумилева лагерем. Блатные правила жизни, нормы поведения, «понятия» он освоил достаточно хорошо. А в 1950–1956 годах он, как старый лагерник, уже будет пользоваться авторитетом у товарищей и сам сможет помогать новичкам. В 1951 году в Камышлаг попадет студент биофака Борис Вепринцев, в будущем – известный биофизик, лауреат Госпремии. Под опеку молодого зэка возьмут дипломат и востоковед Марк Исаакович Казанин и Лев Николаевич Гумилев.
Если в сочинении Быстролетова столько принципиальных ошибок, то логично предположить, что фантастический рассказ о деревянном седле и о «чуме» – такая же выдумка, сочинение, которое Гумилев принял бы за клевету.
Дмитрий Александрович Быстролетов – врач-гинеколог, художник, писатель, сценарист и даже советский разведчик – фигура занятная. Его биография полна мистификаций. Он выдавал себя за внебрачного сына графа Александра Николаевича Толстого, брата писателя Алексея Николаевича Толстого, хотя никаких доказательств тому не было. В конце жизни Быстролетов, мечтавший о славе, но славой обойденный, даже начал сочинять «интервью с самим собой».
В разведке он когда-то и в самом деле служил, в 1932-м его даже наградили именным оружием «За беспощадную борьбу с контрреволюцией», а в 1938-м арестовали. Из лагеря Быстролетов вышел инвалидом в 1954 году. На жизнь зарабатывал переводами, а в свободное время писал автобиографический роман в одиннадцати книгах[18]. О художественных достоинствах этого сочинения, равно как о его исторической достоверности, читатель может судить хотя бы по такому эпизоду:
«Из объятий Розы Лейзер волею судьбы я попал в объятия княгини Долгорукой, княгини Трубецкой и княгини Чавчавадзе. <…> Моими соседями оказались пухлый надменный барон Клодт фон Юргенау и беленькое воздушное существо – граф фон дер Пален. Я их подавлял своей живостью, образованностью и жизненным опытом, к тому же меня вечно ставили им в пример, и рисовал я не хуже Клодта. <…> Моя одноклассница, рыжая, конопатая и зеленоглазая баронесса Ловиза, в полночь раздевалась донага… спускалась из окна вниз, ко мне и Гришке… в зубах у нее болтался шелковый платочек…»
Это напоминает даже не плохой бульварный роман, а уж скорее блатной ро́ман.
Правда и вымысел перемешаны, достоверные подробности лагерной жизни соединены с явно вымышленными. Герой-повествователь этого автобиографического романа – персонаж литературный, он не многим ближе к реальности, чем барон Мюнхгаузен из книги Распэ.
Писатель Гумилев
На самом деле Гумилев досиживал свой срок в сравнительно приличных условиях. На общих работах он пробыл недолго. Завенягин установил в лагере такие порядки, что специалистов (инженеров, геологов, химиков) на общих работах старались не держать, а Гумилев когда-то трудился в геологическом институте, о чем, несомненно, поведал в своей анкете. Так что очень скоро он сменил тяжкий неквалифицированный труд землекопа на квалифицированную работу геотехника: «По штрекам добирался до горняцких забоев… глотая медную пыль, отыскивал терявшуюся в чужих породах блестящую жилу халькопирита, ценнейшего местного минерала, из которого на комбинате получали и медь, и никель, и платину; рисовал забойщикам план залегания пластов, подсказывал, как лучше добраться до халькопирита». Работа тяжелая, как тяжела всякая работа «в горе». К тому же климат Норильска мало годится для жизни человека: «Заполярная зима угнетает не только морозом и пургой, но и вечной ночью, – вспоминал Гумилев. – Отсутствие солнечного света постепенно лишает людей сил. Они становятся вялыми, безразличными. Вот почему всем тогдашним норильчанам памятен день 25 января, когда на склонах гор загораются отблески еще не видного солнца. <…> Но и вторая половина зимы тяжела. В марте от блеска солнца, освещающего снежный наст, люди слепнут, если не надевают черные очки. В апреле наступают белые ночи, как над Невой, но здесь сквозь них идут пурги не меньшей силы, чем зимой».
Полярной зимой 1939–1940-го в бараках, сложенных из бутового камня, но еще не оштукатуренных, было холодно, через щели в стенах проникал не только ледяной воздух, но и снег. Случалось, что к стене примерзали подушки. Но Гумилев выдержал эти испытания: «вольная» жизнь хорошо подготовила его к лагерю. В Ленинграде Лев, как мы помним, колол дрова, спал на сундучке (Фонтанный дом) или на полу (комната Бекмана). Комфорт столичной жизни был для Гумилева редким праздником. Однажды в гостях у Мандельштамов ему постелили на самой настоящей кровати, принадлежавшей теще Осипа Эмильевича. Лев, непривычный к такой роскоши, с удовольствием потягивался на приятно пружинившем ложе: «Костям удобно!»
Наконец, едва ли не каждое лето Гумилев проводил в экспедициях с геологами, гельминтологами, археологами. Жил в палатке, грелся у костра. Когда Гумилев сидел в «Крестах», Ахматова рассказывала о нем Лидии Чуковской: «Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть». Первое знакомство с Белбалтлагом тоже помогло.
К тому же повезло с компанией. В Норильске оказалось немало интеллигентных зэков, которые хорошо знали имена Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Их сыну было нетрудно найти приятелей и даже настоящих друзей. Лев жил вовсе не в бараке «самых отпетых урок», а в бараке геологов, где, по словам Снегова, «было интеллигентно и чопорно». Сам Снегов жил в бараке менее чопорных металлургов. По свидетельству Снегова, Гумилев в Норильске никак не напоминал доходягу: это был еще молодой человек, «худощавый, невысокий, с выразительно очерченным лицом, крепко сбитым телом, широкими плечами».
Последние месяцы лагерного срока Гумилев вообще проводил не в штольне, а в центральной химической лаборатории, которая ему напоминала библиотеку, точнее – хранилище различных материалов, проб горных пород, добытых норильскими геологами. Лаборант Гумилев должен был хранить их в порядке, а при необходимости (по требованию геолога) разыскать нужную пробу.
С началом войны жизнь стала труднее, паек – меньше, но голода не было, поэтому Лев Николаевич мог посвящать свой досуг творчеству, главным образом – поэзии.
Я этот город строил в дождь и стужу,
И чтобы был он выше местных гор,
Я камнем сделал собственную душу
И камнем выложил дорог узор.
Эти стихи можно без цензуры печатать в любой партийной или профсоюзной газете. Всё здесь есть: и оптимизм, и любимая советскими поэтами тема – покорение природы, работа на великих стройках социализма. Если бы Гумилев был не бесправным зэком Норильлага, а членом Союза писателей, такие стихи могли попасть даже в «Правду».
Творческая энергия Гумилева в его норильский период жизни необыкновенна. Тогда он сочиняет сказки в стихах «Посещение Асмодея» и «Волшебные папиросы», пишет стихотворную историческую трагедию в двух картинах «Смерть князя Джамуги, или Междоусобная война», которая станет чем-то вроде этюда к его самому масштабному литературному произведению – трагедии в пяти действиях «Смерть князя Джамуги». Эту трагедию Гумилев записал в 1944 году, по дороге на фронт, но задумал и сочинил еще раньше, в Норильске или, возможно, во время экспедиций на Хантайском озере и Нижней Тунгуске (1943–1944).
Многие стихи норильского периода до нас не дошли. Обе его сказки, «осенняя» («Посещение Асмодея») и «зимняя» («Волшебные папиросы»), были записаны только в конце семидесятых. От «соцреалистического» стихотворения о строительстве Норильска сохранились четыре строчки, да и то благодаря тому, что их запомнила женщина-химик (имя не установлено), работавшая вместе с Гумилевым. Позднее эту женщину отправили в Красноярск, где она встретила однодельца Гумилева Теодора Шумовского, процитировала ему эти строки, а Шумовский их записал. О других стихотворениях и поэмах остались только несколько свидетельств. Сергей Снегов упоминал поэму о цинге, Елена Херувимова пишет, что Гумилев посвятил ей одно из своих стихотворений.
Кроме того, в Норильске Гумилев начал писать прозу. 1941 годом датированы оба его рассказа, «Герой Эль-Кабрилло» и «Таду-вакка». Действие первого происходит в Мексике, второго – в Австралии. Тут соединились генетическая любовь Гумилева к дальним экзотическим странам и распространенная в советских лагерях традиция: экзотика помогает отвлечься от невыносимой реальности, найти отдохновение от тяжелой и скучной жизни. Так что тематика не удивляет, удивляет художественная слабость. Много лет спустя, когда советские издательства будут одну за другой выпускать книги Гумилева, его будут обвинять в «немарксизме» и «антимарксизме», в «искажении истории», даже в «шарлатанстве». Но противники Гумилева и его сторонники, простые читатели и академики – все призна́ют его блестящим писателем, превосходным стилистом, мастером превращать историческое исследование в первосортный детектив. Однако оба лагерных рассказа довольно банальны, в особенности «Герой Эль-Кабрилло» – скучная притча о героизме мнимом и подлинном. Автору изменяет даже язык: «…он быстро пошел по склону холма туда, где у дерева была привязана его лошадь. Первым намерением Алисы было вернуть его. Она вскочила, но сразу остановилась, потому что мысль, вспыхнувшая в ее мозгу, показалась ей ослепительной».
Второй рассказ, «Таду-вакка» (про охоту на оборотня), несколько лучше. Там есть и загадка, разгаданная, впрочем, задолго до развязки, есть и насмешка над религиозной верой просвещенного обывателя в прогресс и науку. Но в общем-то рассказ довольно зауряден. Если в «Герое Эль-Кабрилло» были хоть как-то намечены характеры, то в «Таду-вакка» и этого нет.
Проза Гумилеву явно не давалась, и он это хорошо понимал. Свои рассказы Гумилев, видимо, никому не читал. По крайней мере, не сохранилось свидетельств. Правда, «Таду-вакку» он писал в соавторстве со Снеговым, но Сергей Александрович в своих воспоминаниях об этом рассказе предпочел умолчать. О том, что Гумилев вообще писал прозу, стало известно лишь после его смерти, когда в архиве Льва Николаевича обнаружили самодельные тетрадки с этими рассказами.
Гораздо лучше известно другое сочинение Гумилева – «История отпадения Нидерландов от Испании». И вновь соавтором Гумилева оказался Снегов: «В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа – антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначила испанское правительство…» И всё в таком же духе. В наши дни это один из самых цитируемых художественных текстов Гумилева, уступающий разве что стихотворению «Огонь и воздух» («Дар слов, неведомый уму…»). В какой-то школе на уроке русского языка его уже пытались использовать как учебное пособие.
У сочинения Гумилева – Снегова были свои литературные предшественники: «Голубая книга» Зощенко и «Всемирная история, обработанная “Сатириконом”». Но Аверченко, Дымов и другие просто издевались над очень хорошими учебниками Иловайского, хихикали над великими мужами, «расшатывали основы». Уже в 1920-е, когда учебники Иловайского из школы изъяли, а преподавание истории отменили, сочинение сатириконовцев покрылось музейной пылью. Зощенко же перевел несколько случаев из древней и средневековой истории на язык советского обывателя и написал неожиданно глубокую книгу о неизменности человеческой природы.
Для Гумилева «История отпадения Нидерландов» была прежде всего литературной игрой, рассчитанной на интеллигентного, но уже искушенного в блатном жаргоне и воровских понятиях зэка. Впрочем, сочинение о религиозной революции в Нидерландах, написанное в жанре блатного романа, можно как роман и читать.
Блатные романы сочиняли и рассказывали наиболее начитанные и артистичные зэки, обычно «полуцветы» (то есть нормальные люди, «фраера», подражающие ворам), своим товарищам, преимущественно уркам. Так они приобретали некоторый авторитет в глазах урок, вообще не считавших фраеров за людей. В населении тогдашнего Норильска преобладали заключенные, а половину норильских зэков составляли уголовники. Гумилев, хотя и жил в «геологическом» бараке, не мог избежать общения с ними. Зато он – не вор, не грабитель, не убийца – мог приобрести авторитет в глазах урок именно как рассказчик интересных историй или сочинитель «романов». В 1949 году Гумилев рассказывал Марьяне Гордон, своей крестнице и подруге, что был у блатных «романистом».
С урками в Норильске Гумилев по меньшей мере не враждовал. «Мой знакомый убийца», – рассказывает Гумилев об одном из своих собеседников, уловившем, по словам Льва Николаевича, «абстрактный принцип мирового зла». Интересно, что уголовник Ванька Свист в сказке «Волшебные папиросы» – положительный герой. Он намного симпатичнее Политика и Критика, служителей того самого мирового зла.
И все-таки Гумилев больше общался с интеллигентными людьми, благо таких в Норильлаге было множество. Помимо физика-поэта Сергея Снегова среди норильских друзей и приятелей Гумилева были поэт Михаил Дорошин (Миша), химик Никанор Палицын, инженер, «знаток Ренессанса, любомудр и поклонник поэзии» Евгений Рейхман и астрофизик Николай Козырев, впоследствии ставший известным ученым, одним из авторов теории Козырева – Чандрасекара.
Николай Козырев сидел еще с ноября 1936-го, когда его, только что уволенного из Пулковской обсерватории, арестовали как участника «фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации» (Пулковское дело). Многих его подельников-астрофизиков расстреляли, многие умерли в тюрьме, но Козырев выжил и в январе 1941-го получил новый срок. Козырева обвинили в том, что он придерживался теории Фридмана и Хаббла о расширении Вселенной, ныне общепринятой, что любил стихи Есенина и заявил, будто бытие не всегда определяет сознание.
Козырева привезли в Норильлаг только летом 1942-го, но именно там он, по словам Гумилева, «обрел славу». Сидя на нарах, он рассказывал интеллигентным зэкам, что «Вселенная ограниченна и имеет форму сферы, а что есть за ее пределами – неизвестно. Это поразило всех слушателей настолько, что даже военные новости, сообщаемые вольнонаемными сотрудниками комбината (вольняшками), не могли отвлечь внимание от потрясающих сведений о Космосе и Хаосе. <…> Имена Эйнштейна, Леметра, Дирака, Больцмана потрясли слушателей». Лагерные лекции Козырева пробудили у Гумилева интерес к естественным наукам, без которого никогда не было бы пассионарной теории этногенеза[19].
Гумилев и позднее будет с интересом следить за судьбой Козырева: «Не может быть, чтобы умную и верную мысль никто не понял и не оценил. Если за ближайший год он не станет первым физиком мира, то, значит, он просто академ-придурок». Первым физиком мира Козырев не станет, но и в «академ-придурки» его записывать несправедливо. Сам же Лев Николаевич со временем убедится, что признание научного сообщества даже перспективная научная идея получает не всегда, по крайней мере не сразу. Гумилевскую теорию этногенеза до сих пор не признаёт большинство историков и этнологов.
Самого же Гумилева в лагере считали не историком, а поэтом, достойным своих великих родителей. Удивительно, что с товарищами-зэками соглашался и сам Гумилев. Когда Гумилев неожиданно проиграл турнир поэтов, уступив полбалла Снегову, то пришел в ярость и устроил своему удачливому другу сцену: «Он твердил, что я поступил непорядочно, – вспоминал Снегов. – Он, это всем известно, поэт, его будущая жизнь вне литературы немыслима – он намерен стать на воле писателем и станет им наперекор всему. А я им – это тоже всем известно – физик и философ, моя будущая жизнь – наука».
Откуда этот неожиданный демарш? С чем он связан? Он как будто утратил надежду вернуться к востоковедению, к нормальной научной работе и решил избрать для себя другой путь.
Но, возможно, на Льва Гумилева повлияло и еще одно обстоятельство: рядом не было матери. Анна Андреевна никогда не считала, что карьера поэта подходит ее сыну и, напротив, следила за его академическими успехами, даже гордилась перед знакомыми: «Лева уже писал собственные научные работы (к этому времени только одну работу. – С.Б.), овладел языками (из восточных только новоперсидским. – С.Б.). Он спросил однажды у своего профессора: верно ли то-то и то-то? Профессор ответил: раз вы так думаете, значит, верно…» – рассказывала она Лидии Чуковской.
Уже после войны Ахматова пересказывала другу Гумилева Василию Абросову слова, которые будто бы слышала от академика Тарле: «…в России не чаще чем через 10 лет появляется один студент на страну с такими выдающимися способностями, как у Левы».
Стихами сына она никогда так не гордилась. Ахматова оказалась совершенно права, но в начале сороковых Гумилев думал иначе. Слушатели-зэки хвалили его стихи и сулили Гумилеву-младшему большое будущее.





