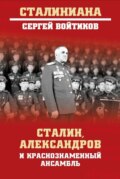Сергей Войтиков
Сталин против Зиновьева
30 июля уже прямой упрек ближайшему товарищу по ЦК и личному другу направил из отпуска и Г.Е. Зиновьев, по мнению которого, Л.Б. Каменев с его авторитетом позволял «Сталину прямо издеваться»[232] над товарищами по руководству РКП(б). Зиновьев указывал на назначения Сталиным на ответственные посты инструкторов ЦК по национальным делам людей, против которых было настроено большинство членов Политбюро и ЦК и руководство Закавказья, куда и должны были отправиться назначенцы, и на единоличное решение генсеком важных политических вопросов – в условиях, когда времени на согласование «было достаточно»[233].
Постфактум Зиновьеву даже показалась мягкой диктатура Ильича, несмотря на то, что, по свидетельству В.М. Молотова, Ленин как политик действовал значительно жестче Сталина. «Ильич когда-нибудь сделал бы такой шаг, не опросив по телегр[афу] членов П[олит] бюро? Никогда! [234] – спохватился старый ленинский соратник, неосмотрительно поддержавший Сталина в начале 1923 года. – Если партии суждено пройти через полосу – вероятно, очень короткую (Зиновьев был “сам обманываться рад”. – С.В.) – единодержавия Сталина – пусть будет так. Но прикрывать все эти свинства я, по кр[айней] мере, не намерен. Во всех платформах говорят о “тройке”, считая, что и я имею в ней не последнее значение. На деле нет никакой тройки, а есть диктатура Сталина. Ильич был тысячу раз прав. Либо будет найден серьезный выход, либо полоса борьбы неминуема. Ну, для тебя это не ново: ты сам не раз говорил то же (курсив наш. – С.В.)»[235]. Сталинская наглость вызвала такое возмущение Зиновьева, что он даже вспомнил о Троцком, мнение которого по Конвенции о режиме черноморских проливов Сталин также запросить не соизволил[236]. Что характерно: на открытое выступление против Сталина Зиновьев не пошел, «стараясь не портить отношений упреками etc.»[237] Как бы там ни было, более остальных товарищи по Политбюро опасались тогда не Сталина, а Троцкого.
Постфактум Ленин стал видеться обоим предавшим его соратникам в розовом свете. Зиновьев даже поинтересовался, «заезжает» ли Каменев «хоть изредка в Горки?»[238] Распространенные в историографии представления об изоляции заболевшего Ленина от товарищей по высшему руководству РКП(б) Сталиным критики не выдерживают: просто мертвого еще при биологическом существовании политика все его, выражаясь языком советских историков, «лучшие ученики», зная, с какой легкостью вождь в свое время ими манипулировал, с радостью предали и мгновенно забыли.
31 июля Г.Е. Зиновьев, наконец, обозначил свою позицию. В письме генсеку он выразил свое недовольство единоличным решением генсеком вопросов от имени Политбюро и даже сослался на январскую диктовку В.И. Ленина с характеристикой на большевистских руководителей и в частности на И.В. Сталина, в которой говорилось о необходимости снятия Сталина с поста генерального секретаря ЦК РКП(б). По сути, выражаясь словами самого Сталина, Григорий Евсеевич попробовал «обуздать»[239] генсека. Но для того, чтобы это действительно удалось, требовалось действовать жестче.
На следующий день, 1 августа, Г.Е. Зиновьев написал Л.Б. Каменеву:
«История с Пленумом выбила из колеи (в связи со сталинским выступлением на курсах секретарей укомов. – С.В.). Ясно, что нужно ехать. Не откладывать же “приятных разговоров” еще на два мес[яца]. Все же ты телеграфируй, обязательно ли ехать.
Здешняя компания цекистов настроена, как мне кажется, очень твердо против “эриванщины” (сталинской политики в национальном вопросе. – С.В.). Даже приехавший [Григорий Яковлевич] Сок[ольников] характеризует всю штуку как поворот “на Льва” [Троцкого], к[ото] рому надо дать резкий отпор. Таковы ауспиции (разновидность древнеримских гаданий духе. – С.В.). Что будет на месте – все же неизвестно»[240].
Несмотря на то, что Зиновьев и сам-то на Пленум ЦК РКП(б), как видно, особо не рвался, он все же написал Каменеву: «[Петр] Залуцк[ий], [Николай] Угл[анов], [Валериан] Куйб[ышев] не хотят ехать: долечиваются. Очень прошу тебя прислать и им телегр[амму], что их приезд крайне необходим»[241].
Конфликт со Сталиным заставил Зиновьева взяться «за талмуд» – за сочинения Ленина: «О “диктатуре” пишу. Нашел абсолютно точные цитаты из Старика, на 100 % подтверждающие нас»[242].
На следующий день, 2 августа, Г.Е. Зиновьев и Н.И. Бухарин отправили Л.Б. Каменеву письмо уже с откровенной иронией в адрес последнего. Цитируем автограф Зиновьева:
«Только теперь получили проток[ол] ПБ от 27/VII с решением против нас за Радека. Гм – да!
Бухарин шутит: в следующ[ем] протоколе мы прочитаем, что [сталинский “друг” и сотрудник Амаяк Маркарович] Назаретян назначен пред[седателем] Коминтерна и что это решение “единогласно”, а Каменюгу мы не будем спрашивать, как он мог голосовать за это…
Если Вы примете обо мне еще хоть одно решение, не вызвав меня [по прямому проводу], не снесшись и т. д. – я немедленно выйду из П[олит] бюро. Имей в виду, что здесь ведется интрига вполне определенная. Теперь Карлушка Р[адек] делает склоку, зачем мы послали частное письмо (не зная В[ашего] постановления от 27/VII) в ответ на его частное письмо. Он пишет нам нахальнейшие письма, посылая копии Тр[оцко] му. По-видимому, храбрость ему придает Ваше постановление. События целиком подтвердили, что К[арл] Р[адек] бил тревогу и разводил панику зря»[243].
Зиновьевская угроза выйти из Политбюро была связана с тем, что Секретариат ЦК РКП(б), без согласования с ним, решал и коминтерновские, и петроградские вопросы. По горькой иронии председателя Исполкома Коминтерна, «ссылка Карлушки [Радека] на единогл[асные] постановл[ения] Президиума ИККИ (к[ото] рые Вы спешите повторять) – жульничество. Из девяти человек четверо здесь: Цеткин, Катаяма, Бух[арин] и я. Суварин и Коларов – тоже в Киеве, итальянец и чех отсутствуют. Остается Карлушка плюс насилуемый им Куусинен»[244]. Не согласовав вопрос ни с Г.Е. Зиновьевым, ни с петроградскими товарищами, генсек снял с ответственного партийного поста секретаря Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) члена РСДРП с 1902 г. Б.П. Позерна (помимо этого вопиющего с точки зрения старых большевиков, привыкших к тому, что они «соль партии», произвола генсек также снял с должности директора петербургского завода «Треугольник», за правоту которого в возникшем недавно конфликте высказались все обсуждавшие вопрос петроградские цекисты). Нарастало недовольство действиями Сталина и московских большевиков[245]. Кроме того, на Зиновьева наводили «ужас» попытки Секретариата ЦК закрыть Путиловский завод: «Это поражение для всей республики, для Питера – полный зарез. Политически зарежем себя (прежде всего, Коминтерн. – С.В.). Облетит всю Европу этакое известие. “Хоз[яйственные]” соображения весьма сомнительны. Умоляю не допускать»[246].
Г.Е. Зиновьев настаивал на том, что снятие А.А. Иоффе – «явная ошибка»[247]. И это понятно: с одной стороны, прецедент по нарушению т. н. «внутрипартийной демократии» был поистине чудовищным, с другой – демонстративная поддержка Адольфа Абрамовича могла если и не привести к временной блокировке Зиновьева с Троцким, то во всяком случае заставить Сталина опасаться подобного варианта развития событий.
Н.И. Бухарин приписал сбоку от основного текста: «Только что получили письмо Кобы, в котором нет ничего по существу, но где есть некоторые нотки отбоя. А зато от храброго Каменюги нет ничего. Это – Schweinerei [свинство. – нем.]. Ждем писем»[248].
7 августа, получив послание Г.Е. Зиновьева от 31 июля, И.В. Сталин направил письмо Г.Е. Зиновьеву и Н.И. Бухарину, а в копии своим ближайшим товарищам К.Е. Ворошилову и Григорию Константиновичу (Серго) Орджоникидзе. Генсек заявил: «1. Вы пишете: “Не примите и не истолкуйте разговор с Серго в другую сторону”. Скажу прямо: я истолковал именно “в другую сторону”. Одно из двух: либо дело идет о смене секретаря теперь же, либо хотят поставить над секретарем специального политкома. Вместо ясной постановки вопроса вы оба ходите вокруг да около этого вопроса, стараясь обходным путем добиться цели и рассчитывая, видимо, на глупость людей. Для чего понадобились эти обходные пути, если действительно существует группа и если есть минимальная доза доверия? Для чего понадобились ссылки на неизвестное мне письмо Ильича о секретаре (т. н. “характеристики” из ленинского т. н. “Политического завещания”, в том числе о необходимости снятия Сталина с поста генсека. – С.В.), – разве не имеется доказательств к тому, что я не дорожу местом и, поэтому, не боюсь писем? Как назвать группу, члены которой стараются запугать друг друга (чтобы не сказать больше)? Я за смену секретаря, но я против того, чтобы был учинен институт политкома (политкомов и так немало: Оргбюро, Политбюро, Пленум). 2. Не правы вы, говоря, что секретарь единолично решает вопросы. Ни одно решение, ни одно указание не проходит без оставления в архиве ЦК соответствующих копий. Я бы очень хотел, чтобы вы нашли в архиве ЦК хоть одну телеграмму, хоть одно распоряжение, не санкционированное той или иной (у генсека было пространство для маневра. – С.В.) инстанцией ЦК. 3. Не правы вы, утверждая, что порядок дня Пол[итического] бюро составляется единолично. Порядок дня составляется на основании всех поступивших вопросов на заседании Секретариата плюс Каменев (председательствующий в ПБ) плюс Куйбышев (пред[седатель] ЦКК). Можно[249] только приветствовать, если все члены группы или Политбюро захотят присутствовать при его составлении. Ни один вопрос не может быть “положен под сукно” не только потому, что на это есть инструкция, но и потому, что указанные лица представляют достаточную против этого гарантию»[250].
Как видим, Сталин категорически протестовал против постановки над ним как генеральным секретарем «специального политкома» помимо Политбюро, Оргбюро и Пленума ЦК РКП(б) (вообще-то занесение Пленума ЦК, то есть высшего большевистского органа, в «политкомы» вполне можно было представить как попытку узурпации партийной власти). Приведем для сравнения два факта из партийной истории: 1) 15 апреля 1907 г. цекист-большевик Александр Александрович Богданов в заявлении в ЦК РСДРП высмеял тезис меньшевиков ЦК о том, что «желание контролировать Бюро Центрального КОМИТЕТА в деле организации съезда есть выражение недоверия к нему»[251]. Богданов пояснил: «Это “истинно-русская” точка зрения: мы – в большинстве, у нас – сила, а потому ты не смеешь “не доверять” нам, и мы не допустим тебя контролировать. В демократической организации контроль всегда обязателен – это азбука вопроса, и здесь ни при чем вопрос о “доверии”»[252]; 2) 16 января 1919 г. Я.М. Свердлов не протестовал против постановки над ним и возглавляемым им Секретариатом Организационного бюро.
Летом 1923 г. И.В. Сталин упорно и методично продолжал дискредитацию Г.Е. Зиновьева в его же собственной вотчине – Петрограде, все-таки проведя решение о закрытии Путиловского завода и тем спровоцировав возмущение рабочих[253] и развязав отнюдь не последний конфликт Григория Евсеевича с Бюро Петроградского (позднее, естественно, Ленинградского) губернского комитета РКП(б) и Северо-Западным бюро ЦК РКП(б)[254].
10 августа 1923 г., вместо того чтобы воспользоваться сталинской демонстрацией, вынести вопрос на Пленум ЦК, зачитать письмо генсека, в котором он называет Пленум «политкомом» над Секретариатом ЦК, и добиться со ссылкой на ленинское предложение если не изменения персонального состава Секретариата ЦК, то уж во всяком случае снятия И.В. Сталина с должности руководителя Секретариата, Г.Е. Зиновьев и Н.И. Бухарин выкинули белый флаг[255]. Написали генсеку: «Ильича нет. Секретариат ЦК поэтому объективно», якобы «без злых желаний» своего руководителя, «начинает играть в ЦК ту же роль, что секретариат в любом губкоме, то есть на деле (не формально) решает все»[256]. Якобы Сталин «поневоле» ставил товарищей по высшему руководству РКП(б) «перед совершившим[ися] фактами»[257]. Заметим, что позднее, в 1925 г., когда уже ничего нельзя было изменить, то же самое заявила Надежда Константиновна Крупская: «Один из вопросов, который должен быть продуман съездом, вытекает из того, что в силу нашего Устава у нас есть Оргбюро и Секретариат с громадной властью, дающей им право перемещать людей, снимать их с работы. Это дает нашему Оргбюро, нашему Секретариату действительно необъятную власть»[258].
11 августа 1923 г. Зиновьев направил «дор[огому] тов[арищу] К. Ворошилову»[259] копию «ответа Кобе» с сопроводительной припиской: «Каменюга пишет, что он вполне поддерживает наше предложение и что Коба “после громов” на него тоже согласится. Приезжайте к нам на денек-другой»[260]. Если уж Зиновьев с Бухариным смирились со сталинским самоуправством, то что оставалось интеллигентному Каменеву?
Поняв, что снимать его с ответственного поста «товарищи» по большевистскому руководству не собираются, 19 августа 1923 г. И.В. Сталин разработал и на следующий день передал через личного секретаря Сталина Льва Захаровича Мехлиса К.Б. Радеку, А.И. Рыкову, Л.Б. Каменеву и Я.Э. Рудзутаку написанные в своей неповторимой манере «Замечания к тезисам товарища Зиновьева». Формальный глава мировой революции составил тезисы к совещанию с немецкими товарищами, посвященному революционным событиям в Германии. Изучив зиновьевские тезисы, Сталин написал: «1. Тезисов от имени Коминтерна публиковать не следует. […] Необходимо действовать только через Германскую компартию и от ее имени. 2. Нужно сказать в тезисах, прямо и ясно, что речь идет о взятии власти коммунистами, без социал-демократов. […] 3. Правильно указано в тезисах (интересно, был ли польщен Зиновьев? – С.В.), что основным лозунгом дня должно быть рабоче-крестьянское правительство. Но нужно неустанно разъяснять массам, что правительство будет не органом рейхстага, а органом Советов, ими санкционированным, перед ними ответственным. […] 4. В тезисах ничего не сказано или очень мало сказано о том, удержат ли власть коммунисты в Германии и каковы те главные условия, на основе которых можно рассчитывать на вероятность удержания власти. Тезисы говорят главным образом о том, что нужно и можно взять власть. Между тем вопрос об удержании власти представляет теперь основу всех вопросов Германской революции. В этом главный недостаток тезисов. Известно, что т. Ленин, призывая русских коммунистов к восстанию, всю силу своих аргументов сосредоточил на вопросе о том, “удержат ли власть большевики”. Этот момент должен быть теперь оттенен в еще большей степени ввиду большой сложности переплета в международных отношениях. 5. Нужно сказать в тезисах прямо и отчетливо, что рабочая революция в Германии означает вероятную войну Франции и Польши (а может быть, и других государств) с Германией, или в самом лучшем случае – блокаду Германии (не дадут подвозить хлеб из Америки и проч.), против чего должны быть намечены меры теперь же. 6. Нужно сказать в тезисах ясно и отчетливо, что революция в Германии и наша помощь немцам […] означает войну России с Польшей и, может быть, с другими лимитрофами, ибо ясно, что без победоносной войны, по крайней мере, с Польшей нам не удастся не только подвозить продукты, но и сохранить связи с Германией. […] Если мы хотим действительно помочь немцам – а мы этого хотим и должны помочь, – нужно нам готовиться к войне, серьезно и всесторонне, ибо дело будет идти в конце концов о существовании Советской Федерации и о судьбах мировой революции на ближайший период. В тезисах этот вопрос также затушеван. 7. Нужно разработать конкретную экономическую программу рабоче-крестьянского (советского) правительства Германии. 8. Остальные менее существенные замечания потом»[261].
Несмотря на апелляцию к опыту В.И. Ленина, документ, который мы только что частично процитировали, по сути представляет собой директиву И.В. Сталина товарищам по ЦК РКП(б) и в том числе председателю Исполкома Коминтерна. По сути дела ставился под сомнение безусловный, с учетом физического состояния В.И. Ленина, авторитет Г.Е. Зиновьева как признанного специалиста по международным вопросам в руководстве РКП(б). Причем позднее поражение революции в Германии нанесло серьезный удар по властным амбициям Зиновьева, а Сталин, как и всегда, сумел «отскочить», выйти сухим из воды. Это при том, что генсек в той же самой бестактной манере всерьез обсуждал с Зиновьевым в письменном виде вопрос о возможной помощи Красной армии немецким товарищам[262]. В международном коммунистическом движении провал целиком «списали» на Григория Евсеевича, тем более что он продолжал совершать ошибки, фатальные для дела мировой революции. Виктор Серж написал в своих воспоминаниях: «1 декабря 1924 г., в пять с четвертью утра, 227 эстонских коммунистов, подчиняясь приказам Исполкома Коминтерна, атаковали общественные здания Таллина, чтобы захватить власть. В 9 часов их уже убивали по углам маленькой столицы. К полудню от их натиска осталось лишь немного крови на круглых булыжниках мостовой. […] Как мог Зиновьев развязать эту глупую авантюру? Зиновьев озадачивал нас. Он отказывался признать поражение в Германии. В его глазах восстание всего лишь запоздало, КПГ продолжала идти к власти. Беспорядки в Кракове показались ему началом революции в Польше. Я считал, что ошибочная, впрочем, не глупая, оценка ситуации, приведшая его в 1917 г. к тому, что он высказался против большевистского восстания, ныне лежала на нем тяжким грузом и вела его к авторитарному и преувеличенному революционному оптимизму. “Зиновьев, – говорили мы, – самая большая ошибка Ленина”»[263].
Не ранее 20 августа 1924 г., когда момент для выяснения отношений с генсеком был безвозвратно упущен, Г.Е. Зиновьев собственноручно набросал «Прогр[амму]-миним[ум]» по ограничению сталинской власти. Документ небольшой, приведем его полностью:
«1. Введение в Секретариат и Оргб[юро] – т. Рудзут[ака].
2. Введение в семерку (во фракционную! – С.В.) из кандидатов в члены: Рудз[утака], Сок[ольникова], Калин[ина], Дзер[жинского], Фрунзе, Молот[ова].
3. Первый секретарь Московского комитета РКП(б) Угланов должен в Москве действовать, обо всем договариваясь с Каменевым (состав Бюро [МК] и пр.).
4. К следующему Пленуму подготовить вопрос о более точном разграничении работ Оргбюро и Секретариата, а также взаимоотношениях Секретариата с Политбюро»[264].
Следует заметить, что впоследствии Николай Александрович Угланов будет одним из руководителей правых, но он не войдет в неформальную «тройку» указанной фракции (Бухарина, Рыкова, Томского), занимая во многом самостоятельную позицию. Угланова и его команду, судя по всему, довольно компактную и очень сплоченную, на всем протяжении двадцатых годов отличал крайний радикализм[265]. В 1923–1924 гг., когда Бухарин блокировался то с Зиновьевым, то со Сталиным, Григорий Евсеевич вполне мог рассматривать Угланова как потенциального сторонника своего и Каменева.
Документ содержит ценную информацию. Во-первых, становится понятно, почему И.В. Сталин никогда не вводил в состав узких коллегий Политбюро Я.Э. Рудзутака, а затем его репрессировал (считается, что дело было в постоянных болезнях Яна Эрнестовича). Во-вторых, наводит на размышления о позиции Михаила Васильевича Фрунзе. В-третьих, «семерка» в руководящем ядре РКП(б) уже воспринималась не как неформальный фракционный центр, а как действующий партийный орган, в котором помимо членов были и кандидаты в члены. При этом предложение о введении в «семерку» В.М. Молотова – явная уступка И.В. Сталину.
Механизм реализации политической власти окончательно сложился: все решают кадры, кадры расставляет Секретариат, Секретариат возглавляет генсек. Сталину оставалось «всего лишь» нейтрализовать всех неугодных «политкомов» – от Политбюро до Пленума ЦК РКП(б), введя в состав этих органов исключительно преданные ему кадры. Этот процесс требовал времени, но результат к моменту кончины Ленина уже был вполне предсказуем.
Формально на всем протяжении 1920‐х гг. сохранялась следующая система высших большевистских органов: «Политическая работа ведется Политбюро ЦК, организационная [ – ] Оргбюро ЦК, и дополнением к Политбюро и Оргбюро для текущей организационной и исполнительной работы является Секретариат ЦК. Все важнейшие назначения работников областного масштаба проходят через утверждение Политбюро ЦК»[266]. Однако на практике вся реальная власть постепенно сосредоточивалась в Секретариате и по мере увеличения удельного веса этого органа в советской политической системе рос и «авторитет т. Сталина» как генерального секретаря[267]. Последнее, утопив в рассуждениях о «полновластном» Пленуме ЦК РКП(б) как «высшем» большевистском органе, «о котором иногда забывают (все лидеры, включая генсека. – С.В.)»[268], фактически признал в конце 1925 г. сам Сталин: «Если превращение Секретариата в простой технический аппарат представляет действительное удобство для т. Каменева, может быть, следовало бы и согласиться с этим. Боюсь только, что партия с этим не согласится. Будет ли, сможет ли технический Секретариат подготавливать те вопросы, которые он должен подготавливать и для Оргбюро, и для Политбюро, я в этом сомневаюсь»[269].
Г.Е. Зиновьев исчерпывающим образом поведал XIV съезду РКП(б) – ВКП(б) 1925 г., как летом 1923 г. он и его товарищи по ЦК совместили полезное с приятным: обсудили вопрос о власти Сталина в «пещере» под Кисловодском, находясь на отдыхе. «Все участники совещания понимали, и всем им одинаково было ясно, что Секретариат при Владимире Ильиче – это одно, а Секретариат без Владимира Ильича – это совершенно другое, – констатировал Григорий Евсеевич. – При Владимире Ильиче, кто бы ни был секретарем, кто бы ни был в Секретариате, все равно и тот, и другой играли бы ограниченную служебную роль. Это был организационный инструмент, долженствовавший проводить определенную политику. Без Владимира Ильича стало всем ясно, что Секретариат ЦК должен приобрести абсолютно решающее значение. Все думали, как бы это сделать так […] чтобы мы имели известное равновесие сил и не наделали больших политических ошибок, выходя в первое наше большое политическое плавание без Владимира Ильича в обстановке, гораздо более трудной, чем ныне. Мы жили тогда душа в душу с Бухариным, почти во всем мы были с ним солидарны. И вот тогда у нас возникли два плана. Один план – сделать Секретариат служебным, другой – “политизировать” Секретариат в том смысле, чтобы в него вошло несколько членов Политбюро и чтобы это было действительно ядро Политбюро. Вот между этими двумя планами мы и колебались. В это время назревали уже кое-какие личные столкновения – и довольно острые столкновения – с т. Сталиным. Вот тут возник план, принадлежавший Бухарину […]. План был такой: […] политизировать Секретариат таким образом, чтобы в него ввести трех членов Политбюро, чтобы это было нечто вроде малого Политбюро; раз Секретариат получает такое громадное решающее значение, может быть лучше, чтобы в него входило 2–3 члена Политбюро. В числе этих трех называли: Сталина, Троцкого, меня или Каменева или Бухарина. Вот этот план обсуждался в “пещере”, где были покойный Фрунзе, [Михаил Михайлович] Лашевич, [Григорий Еремеевич] Евдокимов, Ворошилов, где был ряд товарищей совершенно различных настроений, совершенно различных личных связей и т. д. Насколько помню, решения никакого принято не было и не могло быть принято. Помню живо, что Ворошилов возражал, другие склонялись к этому. Было решено, что Серго Орджоникидзе должен поехать в Москву, и ему как другу Сталина поручили сказать последнему, что вот были такие-то разговоры. Было, кажется, и письмо послано через него. […] Серго это подтверждает. Вот обстановка, которая показывает, что никаких элементов, о которых сейчас говорят, что будто бы здесь было начало склоки или интриганства и т. д., – никаких этих элементов здесь не было ни на йоту. Были большие споры по этому вопросу, и многие рассчитывали (в т. ч. и я), что т. Троцкий будет работать с нами и нам совместно удастся создать устойчивое равновесие. На такой план многие соглашались. И вот все мнения подытоживаются, и через т. Серго Орджоникидзе, то есть ближайшего друга т. Сталина, посылается последнему письмо. Тов. Сталин ответил тогда, кажется, телеграммой грубовато-дружеского тона: мол, дескать, вы, ребята, что-то путаете, я скоро приеду, и тогда поговорим»[270].
Возникает вопрос: чем не устраивал Зиновьева с Каменевым Ленин, что они предали его и пошли на союз со Сталиным? – В отличие от Октября 1917 г., никаких принципиальных разногласий у вождей партии не было. Ответ очевиден: соратникам осточертело фарисейство В.И. Ленина, отмеченное в дневниках Евгения Алексеевича Преображенского и позднейшем воспоминании Андрея Матвеевича Лежавы, когда на заседаниях Политбюро вождь мировой революции сам ставил вопросы, сам навязывал свои варианты их решения и сам же закреплял собственные решения в постановлениях «Политбюро» или «Пленума ЦК» по важным вопросам. От Сталина первоначального Зиновьев с Каменевым ничего подобного не ожидали – и серьезно просчитались.
Зиновьевская «пещера» имела следствием несколько раундов переговоров со Сталиным, в ходе которых последний предложил приемлемый для него как руководителя партаппарата вариант ограничения его же прав[271]. Зиновьевские предложения стали известны представителям второго эшелона большевистской верхушки[272].
Как и Зиновьев с Бухариным, Сталин приехал на Кавказ – отдохнуть от трудов праведных. Григорий Евсеевич предложил встретиться. Сталин ответил в субботу 8 сентября 1923 г.:
«Т[ов]. Зиновьев!
До понедельника остаться не смогу, так как в 11 ч утра в понед[ельник] должен принять грязевую ванну.
Могу приехать вечером в понедельник или вторник (как хотите), или можно приехать вам в Эссентуки в любой день (я каждый день свободен после ванны, которая кончается обычно в 1 ч – 1 ½ ч дня).
Если подымем Ильича (откровенная утопия. – С.В.), я готов стать религиозным человеком (следовало бы стать во время обучения в семинарии. – С.В.), поверить в чудо и… перебить нерусских врачей, которые до смерти нас напугали своими резолюциями, будь они трижды прокляты»[273].
После предварительных переговоров на отдыхе (очевидно, уже не в пещере), на Пленуме ЦК РКП(б) 25 сентября было постановлено: «Пополнить состав Оргбюро двумя членами Политбюро – тт. Зиновьевым и Троцким, а число кандидатов Оргбюро – тт. Коротковым [Иваном Ивановичем] и Бухариным»[274]. С учетом фактора индивидуальных особенностей и многочисленных обязанностей вождей результат вполне предсказуем: В.М. Молотов констатировал впоследствии, что была предпринята попытка «изменить фактическое руководство», однако «это не прошло»[275]. По признанию Г.Е. Зиновьева как основного инициатора «пещерных совещаний», сам он «посетил заседание Оргбюро, кажется, один или два раза», а Н.И. Бухарин и Л.Д. Троцкий «как будто не были ни разу. Из этого ничего не вышло»[276]. При этом даже в тех редких случаях, когда Г.Е. Зиновьев посещал заседания Оргбюро ЦК РКП(б), он явно не пытался вникнуть в те вопросы Секретариата, которые на этих заседаниях поднимались. Так, присутствуя в 1923 г. на важнейшем заседании, посвященном организационно-распределительной работе в партии и положившем начало феномену советской номенклатуры, не принял никакого участия в прениях по докладу заведующего отделом ЦК РКП(б) Лазаря Моисеевича Кагановича Г.Е. Зиновьев – даже когда речь шла об утверждении в ЦК редакторов не только центральных, но и региональных газет, хотя решение ограничивало его собственные возможности в случае эскалации конфликта с И.В. Сталиным, поскольку ставило персональный состав карманного печатного органа главного партийного литератора – газеты «Ленинградская правда» – в зависимость от решений Секретариата ЦК и автоматически штемпелевавшего его постановления Оргбюро[277].
Виновны в этом были сами сталинские оппоненты: им следовало вникнуть в работу Секретариата ЦК и упорно и систематично отменять его решения, направленные на кадровые перестановки в руководстве местных партийных организаций и центральном аппарате управления РКП(б). В этом случае Сталину вряд ли удалось бы организовать «выборы» на партийные съезды делегатов, готовых поддержать любой предложенный им проект резолюции по любому вопросу. Сталин, поостыв, пошел на создание необременительного «политкома» над своим Секретариатом, поскольку понимал: Троцкий не снизойдет до систематической работы, Бухарин предпочтет партийную теорию практике, а Зиновьев попросту не сможет разорваться между Москвой и Петроградом, пусть и во многом номинально, но все же руководя к тому же Коммунистическим Интернационалом. Неудивительно в данном контексте, что в состав всех трех центральных учреждений партии: Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК РКП(б) – на первом Пленуме ЦК XIII созыва вновь вошел один Сталин (до него во все три органа полноправным членом входил секретарь – ответственный секретарь ЦК, член Политбюро ЦК Крестинский) [278].
Борис Бажанов справедливо заметил в своих воспоминаниях: «Сталин и Молотов заинтересованы в том, чтобы состав Оргбюро был как можно более узок – только свои люди из партаппарата. Дело в том, что Оргбюро выполняет работу колоссальной важности для Сталина – оно подбирает и распределяет партийных работников: во-первых, вообще для всех ведомств, что сравнительно неважно, и во-вторых, всех работников партаппарата – секретарей и главных работников губернских, областных и краевых партийных организаций, что чрезвычайно важно, так как завтра обеспечит Сталину большинство на съезде партии, а это основное условие для завоевания власти. Работа эта идет самым энергичным темпом; удивительным образом Троцкий, Зиновьев и Каменев, плавающие в облаках высшей политики, не обращают на это особенного внимания. Важность сего поймут тогда, когда уж будет поздно»[279].
Впоследствии, в конце 1925 г., Г.Е. Зиновьеву припомнили частные совещания членов ЦК РКП(б) на отдыхе летом 1923 г., которые в партии окрестили «пещерными совещаниями». И.В. Сталин при каждом удобном случае издевался над «пещерными людьми»[280], не забывая подчеркивать свое якобы неучастие в «комбинациях»[281]. Генсек дошел до представления зиновьевской инициативы как попытки отстранить от руководства партией А.И. Рыкова, М.И. Калинина, М.П. Томского, В.М. Молотова и других членов ЦК РКП(б)[282].
Как справедливо отмечали сами члены высшего руководства РКП(б), по-настоящему «коллективного руководства партией […] и в ЦК, и в Политбюро […] не было»[283] никогда. Если в связи с необходимостью вести бой с тенью (ленинским посланием съезду) и защищать Политбюро от нападок со стороны Леонида Борисовича Красина, Валериана Валериановича Осинского и других представителей «целевой аудитории» ленинского т. н. «завещания», на XII съезде 1923 г. Зиновьев и Сталин еще вынужденно поддерживали друг друга, то уже к XIII съезду 1924 г. от трогательного единодушия осталась только общая ненависть к Троцкому[284]. Когда к XIII съезду из супертяжеловесов остались Сталин с Зиновьевым, уже стало ясно, что, по выражению последнего, наметились разногласия «среди основного ядра большевиков-ленинцев»[285]. Тем более что Политбюро ЦК РКП(б) перестало быть компактным органом и в нем, как к концу 1917 г. в ЦК (большевиков) РСДРП, помимо вождей появились статисты[286].