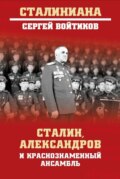Сергей Войтиков
Сталин против Зиновьева
Из этой препроводительной записки вы видите, что представляет из себя предъявленный вам документ – попытку точно сформулировать пункты разногласий, чтобы лучше сговориться.
Тут есть критика действий отдельных членов ЦК. Но разве члены ЦК непогрешимы, или они так слабонервны, что при каждой попытке сказать им правду впадают в истерику и начинают вопить о фракционности? При такой повышенной чувствительности можно пропасть им по чем зря.
Или вы видете фракционность в том, что заявление подписано мною совместно с другими тремя товарищами? Разве тем, кто долгие годы работал вместе с Ильичем, запрещено между собою говорить о партийных делах и “скопом”, в количестве четырех человек, обращаться в ЦК, а надо говорить по одиночке?
Ну, в одиночку-то я не раз пыталась поговорить, и каким успехом мои переговоры увенчались – я могу подробно рассказать, если угодно. Правда, я говорила с отдельными товарищами из вашей фракционной девятки, о существовании которой я даже не знала до вчерашнего дня, а не со всеми сразу.
Ваши обвинения – либо плод больных нервов, либо недостойный шахматный ход, мелкий прием борьбы. Идти по этому пути – верный способ развалить партию.
Путь запрещения статей членов Политбюро и членов Президиума ЦКК – тоже путь не очень-то целесообразный. Печатать статейки Стецкого с персональынми выпадами можно, а печатать деловой ответ на эти статейки нельзя. Ну порядок ли это?
Вряд ли партии принесет много пользы такой образ действий.
Мне лично приходится видеть достаточное количество рабочих и крестьян, слышать их горькие речи, тревожные вопросы – могу вас уверить, дорогие товарищи, на Шипке далеко не все спокойно. Большинство из вас это прекрасно знает. Время ли заниматься игрой в детские шахматы?
Вы знаете мнение широких рабочих масс? Подите на заводы и по-товарищески, не облекаясь в свои высокие звания, по-честному узнайте их мнение. И тогда вы увидите, правы ли мы, сигнализируя вам опасность.
А все эти вопли “о фракционной платформе, направленной против ЦК”, – ну какая им цена? А не учесть нашу “фракционную платформу” – в той или иной форме – вы не можете, ибо она правильна. А только эту цель она и преследует»[361].
После «прощупывания» противника на Октябрьском 1925 г. Пленуме ЦК РКП(б) развернулась острая борьба. Дело дошло до ухода группы цекистов. А.И. Микоян писал об этом в своих воспоминаниях:
«В то время Зиновьев выпустил книгу-брошюру, где он писал, что “приложил ухо к земле и услышал голос истории”. Это было началом полемики с ЦК в завуалированном виде. Одно из заседаний ЦК было посвящено обсуждению этого вопроса. Тогда собрались члены ЦК, около 50 человек, кроме троцкистов, в зале Оргбюро ЦК. Там был маленький стол для президиума. Председательствовал Рыков, Сталин сидел рядом.
Началась дискуссия вокруг этой книги Зиновьева. В ходе дискуссии Рыков выступил неожиданно очень резко и грубо против Зиновьева и его группы, заявив, что они раскольники, подрывают единство партии и ее руководства. В этом случае, говорил он, чем раньше они уйдут из руководства партии, тем лучше.
Для того времени были еще характерны товарищеские отношения между оппозиционной группой и членами ЦК. Выступление Рыкова прозвучало настолько резко, обидно и вызывающе, что Зиновьев, Каменев, Евдокимов, [Моисей Маркович] Харитонов, Лашевич и некоторые другие – к ним присоединилась и Надежда Константиновна Крупская, которая стала вдруг поддерживать Зиновьева и Каменева, – заявили: “… Если нас так игнорируют, то мы уходим”. И демонстративно ушли с этого заседания.
На всех тех членов ЦК, которые хотели сохранить единство, их уход произвел действие шока. Наиболее чувствительный и эмоциональный Орджоникидзе даже разрыдался. Он выступил против Рыкова и со словами “Что ты делаешь?” бросился из зала в другую комнату. Я вышел за ним, чтобы его успокоить. Через несколько минут мне удалось это сделать, и мы вернулись на заседание.
Рыков и Сталин не ожидали такой реакции Серго и других членов ЦК. Серго, конечно, понимал, что Рыков это сделал не без ведома Сталина. Видимо, они заранее сговорились.
Члены ЦК потребовали послать группу товарищей – членов ЦК – к Зиновьеву с приглашением вернуться на заседание Зиновьеву и всей группе. Была назначена делегация, в которую вошли [Григорий Иванович] Петровский, [М.Ф.] Шкирятов и я.
Зиновьев и другие ушли с заседания возбужденные, удрученные. Я думал, что мы застанем их в таком же подавленном состоянии, обеспокоенными тем, что случилось. Когда же мы пришли (они были все в секретариате Зиновьева в Кремле), то увидели, что они весело настроены, рассказывали что-то смешное, на столе чай, фрукты. Я был удивлен. Мне тогда показалось, что Зиновьев артистически сыграл удрученность и возмущение, а здесь, поскольку сошел со сцены, перестал притворяться. Все это произвело на меня неприятное впечатление. Но, видимо, все же они были очень рады, что мы за ними пришли – сразу согласились вернуться. На этот раз разрыв удалось залатать. Примирились. Договорились не обострять положение, сохранить единство. Но на душе было неспокойно.
Дзержинский, может быть, лучше других видел, что дело идет к расколу. Он не терпел Зиновьева и Каменева, считал их очень опасными для партии и, видимо, предвидел, что дело может кончиться плохо. Он считал, что они играют такую же роль, как это было в условиях кризиса советской власти во время Кронштадтского восстания в 1921 г. (в Кронштадтском мятеже многие – совершенно безосновательно – обвиняли Зиновьева. – С.В.).
Человек эмоциональный, вспыльчивый, Дзержинский на заседании молчал, сдерживая свое возмущение, но чувствовалось, что он мог взорваться в любую минуту. Когда после заседания он в тесной раздевалке оказался рядом с Надеждой Константиновной, то не выдержал и сказал: “Вам, Надежда Константиновна, должно быть очень стыдно как жене Ленина в такое время идти вместе с современными кронштадтцами. Это – настоящий Кронштадт”. Это было сказано таким взволнованным тоном и так сильно, что никто не проронил ни слова: ни мы, ни Надежда Константиновна. Продолжали одеваться и так же молча разошлись в очень удрученном состоянии.
После этого заседания мы зашли к Сталину. В разговоре я спросил, чем болен Рудзутак, серьезна ли болезнь, так как на заседании его не было. Сталин ответил, что Рудзутак фактически не болен. Он нарочно не пошел на это заседание, потому что Зиновьев и Каменев уговаривали его занять пост генсека. Они считали, что на этом заседании им удастся взять верх и избрать нового генсека. По всему видно, что Рудзутак с этим согласился и не пришел на заседание, чтобы не быть в неловком положении, не участвовать в споре ни с одной, ни с другой стороной, сохранив таким образом “объективность”, создать благоприятную атмосферу для своего избрания на пост генсека как человека, входившего в состав Политбюро, а не “группировщика”. Я не уверен, знал ли Сталин это или предполагал. Скорее всего, предполагал такой вариант. Однако в последующем Рудзутак держался старой позиции и поддерживал Сталина, не проявляя колебаний в борьбе с оппозицией. Я не помню, чтобы Сталин когда-либо делал ему упрек по поводу его “дипломатической болезни”, когда он не явился на совещание»[362]. Определенные основания для подозрений у генсека в данном случае, повторимся, были[363].
5—6 октября Ф.Э. Дзержинский, до глубины души возмущенный происходящим, направил И.В. Сталину и Г.К. Орджоникидзе послание для его оглашения «на собрании фракции ленинцев (! – С.В.)»[364]. Ф.Э. Дзержинский припомнил Г.Е. Зиновьеву все, что накопилось за годы общения: «…партии пришлось развенчать Троцкого единственно за то, что тот, фактически напав на Зиновьева, Каменева и других членов ЦК нашей партии, поднял руку против единства партии, то есть только за то, что сейчас взялся Зиновьев с той разницей, что сторонникам Троцкого удалось тогда подготовить для переворота (так в документе. – С.В.) малую часть Московской организации, руководимой тогда Каменевым, а сейчас удалось Зиновьеву предварительно, по-заговорщически, деморализовать всю официальную Ленинградскую организацию и привлечь Надежду Константиновну. Таким образом, в эту драку после драки с Троцким партия вступает не только разоруженной в отношении Зиновьева и Каменева, но и с расколом в среде самого пролетариата»[365]. Что характерно, Дзержинский заявил о своем выходе из узкого фракционного руководства РКП(б): «…не хочу быть участником раскола, который принесет гибель партии»[366].
6 октября «четверка» направила «девятке» следующее заявление:
«1. Четверка согласна сделать все возможное, чтобы избежать открытой дискуссии (Сталин написал слева от текста на полученном экземпляре заявления: “Запретить [открытую дискуссию] безусловно”. – С.В.).
2. Четверка не может, однако, отказаться от убеждения, что проповедь бухаринской точки зрения крайне вредна и влечет за собой ряд практических ошибок.
3. Ввиду этого четверка призывает фракцию со всем вниманием отнестись к этому вопросу, всесторонне изучить его, ибо он неминуемо встанет в ближайшем будущем.
4. А пока четверка настаивает на том, чтобы семерка не солидаризовалась с ошибками бухаринского направления.
5. В этих целях необходимо: а) отменить резолюцию семерки о солидаризации со статьей Стецкого и с мнимой ошибкой т. Каменева; б) статьи Крупской и Каменева напечатать в “Правде” (причем фраза в статье Крупской о том, что учиться у капитализма надо по-ильичевски, а не по-струвовски (от Струве. – С.В.), показавшаяся неудобной, может быть выпущена); в) настаивает, чтобы на страницах “Правды”, “Большевика”, “Комсомольской правды” и пр. не велась систематическая проповедь бухаринской точки зрения – для чего четверка предлагает сговориться, как практически обеспечить выравнивание линии в “Большевике”, “Комсомольской правде” и пр.; г) считает желательным выработку на данном Пленуме совместной политической декларации, делающей невозможной отождествление направления партии с линией Бухарина.
6. Считает необходимым не допускать никаких организационных перемещений сторонников взгляда четверки.
7. Выбрать авторитетную комиссию для разбора организационных трений внутри семерки и с докладом на фракции»[367].
7 октября Зиновьев с Бухариным обменялись записками в ЦК РКП(б) с приложением цитат из высказываний и статей последнего. В целом можно констатировать, что в большей степени правота была на стороне Бухарина, который, как бы там ни было, осуждал «кулацкий уклон»[368]. В тот же день Президиум ЦКК РКП(б) не в первый и далеко не в последний раз доказал, что он полностью разделяет взгляды большинства ЦК РКП(б). В. Куйбышев, Н. Янсон, И. Ильин, Н. Шверник, Н. Лисицын, В. Косарев, С. Чуцкаев, И. Коротков, М. Пастухов, Б. Ройзенман, А. Шотман, М. Шкирятов, А. Сольц, Д. Лебедь и А. Назаретян подписали следующее заявление:
«Члены Президиума ЦКК, ознакомившись с документом “четырех”, с ответом на него большинства руководящего коллектива и с другими материалами, считают, что выявившиеся в этих материалах и документах разногласия могут и должны быть изжиты внутри нашего ленинского большинства ЦК. Члены Президиума ЦКК считают, что открытая партийная дискуссия в настоящий момент грозит бесконечными затруднениями для партии и пролетарской власти и может поставить под угрозу единство нашей партии.
Требования “четырех” перенесения спорных вопросов на открытую дискуссию, от которой они не отказываются полностью и в последующем документе (“Наш ответ девятке”), вынуждают нас, членов Президиума этого органа, который, по замыслу В[ладимира] И[льича], “не взирая на лица”, должен неуклонно охранять единство партии, всеми силами протестовать против этого требования. Независимо от той оценки, которая будет ленинским большинством ЦК дана выступлению четырех, члены Президиума [ЦКК] считают правильным заявление большинства руководящего коллектива в его ответе четверке, что дискуссия не должна быть допущена и единство партии всеми мерами должно быть сохранено»[369].
На следующий день, 8 октября, обеим составляющим сталинско-зиновьевского, «ленинского», ядра ЦК и ЦКК РКП(б) удалось прийти к некоторому временному компромиссу. Сталин, Каменев, Бухарин, Томский и Рыков приняли «сов[ершенно] секретную резолюцию»:
«1. Одобрить проект резолюции семерки “О работе среди деревенской бедноты” (“тезисы т. Молотова”), поручив семерке вести решительную борьбу как с уклоном затушевывания кулацкой опасности (Богушевский, Слепков и др.), так и с уклоном к затушевыванию роли середняка ([Юрий] Ларин и др.), чреватыми опасностью подрыва политики партии в деревне, принятой на XIV конференции.
2. Признать недопустимой открытую дискуссию между лидерами фракции, а равно и полемику в печати против них, обязав семерку следить за тем, чтобы было безусловно обеспечено единство линии ленинцев в подготовительной работе к XIV съезду путем предварительного согласования важнейших выступлений.
3. Признать, что семерка поступила правильно, не допустив открытой дискуссии между лидерами фракции (курсив наш. – С.В.).
4. Поручить семерке дать в “Правду” общую статью без подписи в виде передовицы на основе “тезисов Молотова”.
5. Признать, что лучшим средством дезавуирования лозунга “обогащайтесь” является соответствующее выступление самого т. Бухарина в печати. Принять к сведению заявление т. Бухарина, что на днях он сделает такое выступление…»[370]
10 октября 1925 г., в ходе прений по докладу М.П. Томского о командировке в Великобританию по делам мирового коммунистического движения, в высшем руководстве РКП(б) в полушутливой форме обсуждения нравов, бытовавших в английской коммунистической партии, состоялся обмен мнениями по вопросу о месте и роли генерального секретаря ЦК РКП(б).
Делясь впечатлениями от командировки, М.П. Томский заявил: «Во-первых, после прений, в которых высказались диаметрально противоположные мнения, Центральный Комитет вопрос на голосование не ставит. На мой вопрос: “Почему не ставит на голосование?” – мне ответили: “Мы избегаем голосования, мы почти никогда не голосуем”. – “Почему?” – “Зачем голосовать? Настроение видно и так, это обостряет отношения”. Там даже и коммунисты не заостряют вопросов (не по-ленински. – С.В.). Это не то, что у нас, когда происходит столкновение двух мнений так, что искры летят, потом мы голосуем, потом должно быть зафиксировано, кто голосовал, как голосовал и т. д. Там этого нет: там при обсуждении вопроса стараются добиться единогласного решения без голосования. Это тоже характерная черточка. Индивидуализм там развит в политике чрезвычайно. Он настолько развит, что одним из препятствий к дальнейшему [расширению] Британской коммунистической партии являются вопросы дисциплины. Для англичан чрезвычайно трудно понять, как это так, если я не согласен по тем или иным вопросам, головать я буду против своего убеждения или что я не имею права высказать свое мнение (в Советском Союзе привыкли и к первому, и ко второму. – С.В.). Это чрезвычайно трудный вопрос, который не могли бы понять англичане»[371]. Кроме того, в СССР «для каждого большевика несомненно то, что иногда по некоторым вопросам, независимо от того, в большинстве или меньшинстве он, выгодно бывает перед массами развернуть свою программу (в 1920‐е гг. это было особенно характерно для деятелей оппозиции. – С.В.). Ну, побьют тебе немножко морду, но, по крайней мере, показать, како верующи». В Англии такого не было[372].
Председатель избирался на каждом конгрессе Генерального совета, и у него было одно право: на следующем конгрессе «через год» председательствовать. «На данный конгресс председателя избирает предшествующий конгресс. (Смех. Ворошилов и Каганович: “А в течение года что он делает?” Каменев: “Ждет следующего конгресса”. Смех.). Он председательствует на заседаниях Генерального совета – это его первое право. Второе право: он будет председательствовать на конгрессе – это считается вполне достаточным. […] Никаких политических выступлений он не имеет права делать»[373].
Томский рассказал, что вся практическая работа Генсовета была сосредоточена «в руках секретаря», который «не имеет права голоса на заседаниях Генерального совета» и «не имеет права вмешиваться в вопрос избрания председателя. […] Считается верхом неприличия, чтобы он сказал какое-нибудь мнение, участвовать в каком-нибудь блоке, агитации по выборам председателя. Как будто очень маленькая роль, но на самом деле секретарь имеет право подписывать и посылать документы от имени Генерального совета; секретарь подготавливает вопросы по всякому порядку дня Генерального совета»[374]. И, видимо, не случайно из выступления Томского в ходе внесения в стенограмму правки убрали положение, поразительно напоминавшее реальную расстановку сил в высшем большевистском руководстве: «Члены Генерального совета приходят на заседание Генерального совета голенькими, у них ничего нет в руках по той повестке, все материалы, все подготовленные вопросы, все находится у секретаря, который докладывает, подготавливает резолюции, решения Генерального совета. За это он не имеет права голоса на Генеральном совете (смех), о чем он и не особенно печалится, нужно сказать»[375]. Секретарь Генерального совета Фред Брамли, в отличие от председателя, «не избирается на каждый год, а как он выбран, так он уже и будет секретарем до тех пор, пока он не совершит какого-нибудь душупотрясающего преступления или пока он не умрет»[376]. Сталин, который будет руководить Секретариатом ЦК ВКП(б) – КПСС до марта пятьдесят третьего года, тут же заявил с места, что «секретарь есть выразитель преемственности»[377]. Если секретарь Генсовета брался за проведение какой-либо резолюции, резолюция непременно принималась. «Это очень хитрая механика, – пояснял Томский. – Если вы прибавите к этому, что, например, бой на конгрессе происходит в заранее заготовленных рамках, то вы получите настоящую картину. На конгрессе нельзя вынуть из кармана резолюцию и сказать: “Я предлагаю конгрессу принять такую резолюцию”. Вы не имеете такого права. На конгресс нельзя вносить никакой резолюции, никаких поправок. Авторы резолюции … должны вносить их за 6 месяцев до конгресса, а поправки к ним должны быть внесены за 3 месяца до конгресса, должны быть отпечатаны, разосланы всем профсоюзам. Идентичные резолюции вносятся в одн[у] на согласительной комиссии конгресса, иначе они выступают как конкурирующие резолюции, причем если вы внесли на голосование резолюцию, решили ее согласовать, то автор внесенной резолюции снять ее не имеет права: раз ваш союз вносит резолюцию, там вносят резолюции не индивидуумы, а организации – союзы, то внесенную вами резолюцию вы не имеете права снять, а конгресс решает, можно ее снять или нельзя снять. Когда вы вообразите всю механику, заранее отпечатанные резолюции, поправки к ним и все прочее, то вы поймете все трудности»[378].
Согласно объяснению Томского, в Англии профессиональное движение было построено «по системе лидеров»: определено, что «лидер – так это лидер». На сталинское уточнение с места «На двести лет?» – Томский ответил: «На всю жизнь!»
Для расшифровки всего того, что в действительности обсудили 10 октября 1925 г. цекисты, следует запомнить ключ к стенограмме: когда речь шла о «председателе», имелся в виду председательствующий на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) Л.Б. Каменев, а когда речь шла о «секретаре», то о генеральном секретаре ЦК РКП(б) И.В. Сталине.
Так или иначе, в результате Октябрьского 1925 г. Пленума ЦК РКП(б) удалось «принять резолюцию об организации бедноты» и провести решение о необходимости «дать отпор кулацкому уклону Слепкова – Богушевского в общей статье членов Политбюро», причем Бухарин обязывался «публично взять назад лозунг “обогащайтесь”», а «каждый член Политбюро обязался» отныне «согласовывать свои выступления в “семерке”». Кроме того «…было решено солидарно готовить XIV съезд, не открывая дискуссии». Однако «почти все постановления остались невыполненными. Выступления против кулацкого уклона не было…»[379] Насколько «солидарно» пойдет подготовка съезда, надо полагать, прекрасно понимали и Зиновьев с Каменевым, и Сталин с Бухариным.
19 октября 1925 г. Г.Е. Зиновьев сделал доклад «Рабочий класс и крестьянство» – об итогах Пленума ЦК – на собрании Ленинградского актива. Генсек, ознакомившись с присланным Григорием Евсеевичем в ЦК ВКП(б) экземпляром доклада, сделал на нем синим карандашом весьма характерную помету: «Странная окрошка в теоретической части, удивительная путаница практических [моментов]. И. Ст.»[380]. Стороны готовились к открытому противостоянию и, несмотря на договоренности, достигнутые в «семерке» 8 октября, стали менее тщательно скрывать свои намерения.
Тут самое время указать, что, как и всегда в истории партии (очевидно, любой партии), образовалось «болото», не желавшее признать откровенный разлад в руководящем ядре. По относительной для большевистского деятеля мягкотелости (не зря И.В. Сталин именовал его в разгар репрессий «либералом») в «болото» ушел М.И. Калинин. Выступая 25 октября 1925 г. с заключительным словом по докладу об итогах Октябрьского Пленума ЦК на собрании актива Бауманской организации РКП(б), «всесоюзный староста» сказал надвое: «Не обязательно, чтобы у нас не было разногласий во время выработки резолюции, обязательно, чтобы у нас не было разногласий после принятия резолюций, а когда резолюция принимается, тогда каждый член партии имеет полное право отстаивать свое мнение. До сих пор у нас не было случаев, чтобы кто-нибудь не выполнял директив ЦК: кто-нибудь из членов [ЦК]. До нас доходят разные слухи, говорят так, что вот там, в неопубликованном материале, самое интересное. (Смех.) Товарищи, говорят, что женщины прикрываются платьем для того, чтобы прикрыть самое неинтересное, а всем кажется, что мы прикрываем самое интересное. (Смех.)»[381] Калинин действительно прикрывал в докладе самое интересное: разногласия сталинско-бухаринской группы ЦК с зиновьевско-каменевской. Поступал так искренне: неизбежность свары, связанной с разгромом будущей Новой оппозиции, была для него еще совсем не очевидна. И это несмотря на тот факт, что «единство» т. н. «ленинцев» уже изрядно поколебали два скандала в благородном большевистском семействе. Оба они были так или иначе связаны с Петром Антоновичем Залуцким – членом ЦК РКП(б), сподвижником Зиновьева, занимавшим два важных поста – секретаря Северо-Западного областного бюро ЦК и секретаря Ленинградского губернского комитета РКП(б).