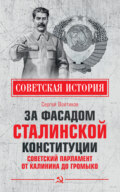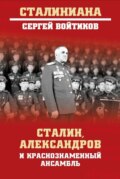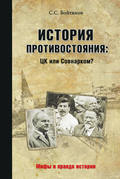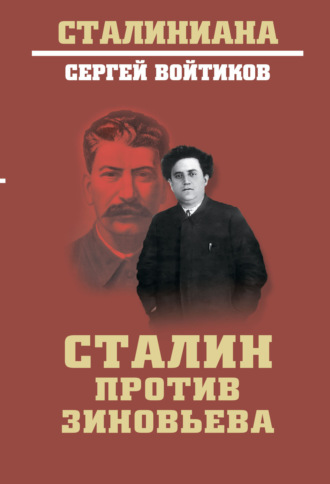
Сергей Войтиков
Сталин против Зиновьева
От вчерашнего властного тандема (чтобы не сказать подковерного сговора двух членов Политбюро) остались только красивые слова, которые, естественно, произносил более слабый «партнер». За зиновьевской декларацией от 27 мая 1924 г. о том, что он солидарен со Сталиным в вопросе «о работе в нашей партии женщин»[287], «как и во всех остальных»[288], скрывалось осознание серьезной политической ошибки: для начала следовало, объединившись с Лениным, снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК, как это и предлагал вождь мировой революции в своем т. н. «завещании». Совсем недавно, в феврале 1924 г., Зиновьев уже выражал недовольство решительно всем, особенно позицией Бухарина как руководителя Центрального органа партии, который никак не мог определиться в своих пристрастиях и временно (не в последний раз) перебежал на сторону генсека. Бухарин (отметим, несколько забегая вперед) вернется к Зиновьеву с Каменевым, но ненадолго. На XIII съезде РКП(б) Г.Е. Евдокимов, по свидетельству делегата-выборжца, «не только в выступлениях, но и в отдельных беседах с делегатами съезда (а мы знаем, что т. Евдокимов очень часто говорил то, что думал т. Зиновьев) ставил главным образом вопрос в отношении Троцкого персонально, заявляя, что если мы оставим Троцкого в том же положении, или, вернее, в правах члена Политбюро и председателя Реввоенсовета [СССР], то он нам отвинтит башку»[289][290].
Л.Д. Троцкий вскользь упомянул в своем «труде» о генсеке, что осенью 1925 г. Сталин прекратил заседания «триумвирата»[291] (в это время «семерки»), «привлекая к себе большинство в Политбюро»[292]. По форме это была ошибка, а по содержанию – чистая правда. В ходе сквозного просмотра личного фонда Г.Е. Зиновьева нами был выявлен уникальный документ, содержащий важные данные об эволюции узких руководящих групп в составе ЦК и ЦКК. Не позднее конца октября 1925 г., в преддверии XIV съезда РКП(б) – ВКП(б) (датируется по упоминанию М.В. Фрунзе) Г.Е. Зиновьев сделал запись о заседании фракционной «семерки», на котором обсуждался вопрос о ее фактическом преобразовании в «пятерку». В записи упомянуты в качестве выступающих Г.К. Орджоникидзе, М.В. Фрунзе и Ф.Э. Дзержинский. Если это не запись собственного выступления Г.Е. Зиновьева, то именно Ф.Э. Дзержинский сделал более чем объективное заявление о если так можно выразиться, арифметической трансформации негласного фракционного руководящего центра:
«Трещинка в трещине […]
ПБ с 7 до 5.
Семерка [сокращена] до пятерки.
Надо доверять друг другу»[293].
В принципе Дзержинский всегда действовал в отношении товарищей по большевистскому руководству по принципу «давайте жить дружно»…
Собственно, к концу года Зиновьев уже не мог решить ни один сколько-нибудь серьезный вопрос без согласования со Сталиным. В качестве иллюстрации – переписка от 4 ноября 1924 г.:
«– Тов. Сталин, очень прошу Вас прочитать корректуру моей статьи, которая должна появиться 7/XI. Если есть места, которые могут вызвать разногласия между нами, я охотно готов все похерить. Захватите, пожалуйста, корректуру завтра с собой на Политбюро. Привет! Г. Зиновьев.
– Тов. Зиновьев! Не имею никаких возражений. И. Сталин»[294].
Подобная переписка – не единичная[295].
Вынужденное продолжение опостылевшего и Сталину, и Зиновьеву «партнерства» было связано с активизацией деятельности Троцкого. 15 сентября 1924 г. Лев Давидович закончил статью «Уроки Октября», с которой началась т. н. «Литературная дискуссия в партии». В данном труде о предыстории Октября Троцкий обрушился с резкой критикой на Зиновьева и Каменева. Последний воспринял статью как личное оскорбление. 18 ноября Лев Борисович прочел доклад «Ленинизм или троцкизм» на собрании Московского комитета РКП(б) с активными работниками Московской парторганизации, 19 ноября – на собрании Коммунистической фракции ВЦСПС, а 21 ноября – на совещании военных работников. В последнем случае Каменев перенес дискуссию в армию[296]. В своем докладе Лев Борисович прямо заявил: «Тов. Троцкий – искусный литератор, и его искусное перо неоднократно служило партии. Здесь же оно служит антипартийным элементам, здесь оно служит не большевизму, а делу разложения и дискредитирования большевизма как идеологии пролетарской революции и как организации боевых элементов пролетариата»[297]. Каменев сделал вывод о том, что Троцкий «…стал тем каналом, по которому мелкобуржуазная стихия проявляет себя внутри партии»[298]. Артиллерийским литературным «огнем» Каменева поддержали Сталин, Зиновьев и другие видные деятели РКП(б). Проанализировав «арабские сказки» Троцкого, «компрометирующие Ленина»[299], Сталин сделал вывод: «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение»[300]. Зиновьев заявил: большевистская партия должна «…добиться того, чтобы партийная дисциплина была обязательна и для т. Троцкого»[301], и партия этого добьется.
Впоследствии, во времена Объединенной оппозиции (1926–1927), когда Зиновьев и Каменев вступят в тактический блок с Троцким, Лев Давидович задаст Григорию Евсеевичу и Льву Борисовичу прямой вопрос:
– Состоялась ли бы дискуссия против «троцкизма», если бы на свет не появились «Уроки Октября»?
И получит прямой ответ Зиновьева:
– Конечно, состоялась бы.
Григорий Евсеевич пояснил: данная дискуссия была необходима, «тройка» искала «только повода»[302]. Никто из присутствующих при этом зиновьевцев не возражал. Все приняли ответ Зиновьева «как факт общеизвестный»[303]. Весьма характерно, что книге «О марксизме т. Троцкого в теории и политике», написанной 28 января 1925 г. и напечатанной в «Государственной типографии имени т. Зиновьева»[304], члена ЦК РКП(б) Залуцкого справедливо говорилось о необходимости отделения «“троцкизма” как политического направления от Троцкого как личности, от Троцкого как таланта устного печатного слова»[305].
Очевидно, где-то в это время состоялась, как написал Л.Д. Троцкий в своем фундаментальном труде о генсеке, «задушевная беседа Сталина, Дзержинского и Каменева за бутылкой вина на даче. На вопрос, что каждый больше всего любит в жизни, разогретый Сталин ответил с необычной откровенностью: “Наметить жертву, все подготовить, беспощадно отомстить, а потом пойти спать”»[306]. Каменев признался, что «в тройке приходилось быть откровенными друг с другом, хотя личные отношения и тогда уже не раз грозили взрывом»[307]. Если верить Троцкому, Зиновьев говорил ему в 1926 г. о том, что Сталин отдал бы приказ об убийстве Льва Давидовича, когда бы «не боялся в ответ террористических актов со стороны» партийной «молодежи»[308] – тех, кто вступил в РКП(б) в годы Гражданской войны и для кого Троцкий стоял на втором месте после Ленина.
В конце 1924 г. Г.Е. Зиновьев и его ленинградская партийная группировка, а также Л.Б. Каменев потребовали исключения Л.Д. Троцкого из партии, И.В. Сталин и большинство ЦК РКП(б) решительно воспротивились этому[309], однако радикальное предложение было использовано в начале 1925 г. для формального снятия Л.Д. Троцкого с поста председателя РВС СССР (Троцкий уже практически не принимал сколько-нибудь серьезное участие в работе высшего военного коллегиального органа) и его замены на М.В. Фрунзе, у которого были ровные отношения с обеими властными группировками. Позднее генсек пояснял, что «политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови – а они (Зиновьев и Каменев. – С.В.) требовали крови – опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего»[310].
На провокационный вопрос, «что же у нас останется в партии?» – ответ в 1925 г. был уже очевиден: это «что-то» – сам Сталин. Сравните его выступления в 1925 и 1927 годах: 1) XIV съезд ВКП(б) 1925 г.: «Мы против отсечения. Мы против политики отсечения. Это не значит, что вождям (здесь и далее следует читать – другим вождям. – С.В.) позволено будет безнаказанно ломаться и садиться на голову. Нет, уж извините. Поклонов в отношении вождей не будет»[311]; 2) XV съезд ВКП(б) 1927 г.: «Если просмотреть историю нашей партии [в данном случае – с 1903 г. – С.В.], то станет ясным, что всегда, при известных серьезных поворотах нашей партии, известная часть старых лидеров выпадала из тележки большевистской партии, очищая место для новых людей. Поворот – это серьезное дело, товарищи. Поворот опасен для тех, кто не крепко сидит в партийной тележке. При повороте не всякий может удержать равновесие. Повернул тележку, глядь – и кое-кто выпал из нее»[312].
Именно совместные действия против Троцкого были главной консолидирующей силой союза Сталина с Зиновьевым. После одержанной победы над Троцким Сталин с Зиновьевым стали усиленно готовиться к выяснению отношений друг с другом[313].
Глава 3
Мировая революция или построение социализма в одной стране? Дискуссии вокруг стратегии РКП(б) и мирового коммунистического движения
Конфликт в руководящем ядре РКП(б) между членами ЦК Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым, М.М. Лашевичем и П.А. Залуцким, а также членом ЦКК Н.К. Крупской, в которой оболочка совершенной «развалины» скрывала «бездну энергии и хорошие острые когти»[314], с одной стороны, и членами ЦК И.В. Сталиным, В.М. Молотовым, А.И. Рыковым, М.И. Калининым, М.П. Томским и Н.И. Бухариным, а также председателем ЦКК В.В. Куйбышевым и членами Президиума ЦКК Е.М. Ярославским и С.И. Гусевым, вылился в расхождение по ряду вопросов: 1) о диктатуре пролетариата; 2) о «союзе» с крестьянством; 3) о современных задачах и работе профсоюзов в СССР; 4) о роли Троцкого в партии; 5) о единоличном или коллегиальном руководстве партией; 6) о роли и месте Ленинградской организации РКП(б)[315]. Расхождения были по большей части лишь формальным поводом к объявлению войны. Не покривил душой генеральный секретарь ЦК РКП(б), когда заявил XIV съезду: «Каменев говорил одно, […] Зиновьев […] другое, […] Лашевич – третье, Сокольников – четвертое (забыл добавить, что Крупская – пятое. – С.В.). Но, несмотря на разнообразие, все они сходились на одном. […] Их платформа – реформа Секретариата ЦК»[316], то есть отстранение генсека от власти.
Зиновьев в черновом наброске (1926) к «Истории наших разногласий» утверждал, что «нападающей стороной» был Сталин, публично выступивший в докладе против формулы Ленина, которую принял XII съезд РКП(б): «Диктатура пролетариата невозможна иначе, как через диктатуру компартии»[317]. По его заявлению, «фракционное совещание членов ЦК (около 25 человек, в т. ч. шесть членов Политбюро) в августе [1924 г.] дезавуировало Сталина, признав его выступление ошибочным, антиленинским, и утвердило статью Зиновьева “о диктатуре пролетариата и диктатуре партии”, напечатанную в “Правде” 24 августа 1924 г. как редакционную. Это выступление Сталина и послужило толчком к фракционному оформлению во время Августовского Пленума»[318]. Генсек поднял брошенную перчатку.
В декабре 1924 г. генсек впервые выступил со своей теорией о возможности «построения социализма в одной стране» (Сталин вынашивал эту идею по меньшей мере с лета 1917 г.). В своей брошюре «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» генсек, по его собственному убеждению, стал глашатаем основанной на ленинском труде «О кооперации» «неоспоримой истины» о том, «что мы имеем все необходимое для построения полного социалистического общества»[319].
15 января 1925 г. в статье о лозунге «Лицом к деревне!» против «неоспоримой» сталинской «истины» косвенным образом (без указания авторства) выступил Зиновьев. Это была уже принципиальная дискуссия о мировой революции и о политике Советского Союза. Баталии были неизбежны, однако на данном этапе от генерального сражения воздержались обе стороны: Сталин не был готов аппаратно, Зиновьеву не хватило решимости вовремя поставить на карту весь свой авторитет в качестве ведущего партийного литератора – для персонализации «стратегической угрозы» и заострения вопроса в ленинских традициях «тотального оппонирования». По более позднему свидетельству Зиновьева, «перед XIV конференцией», состоявшейся 27–29 апреля 1925 г., Зиновьев и Каменев прямо выступили в “семерке” против теории “социализма в одной стране”, и XIV конференцией была предложена компромиссная резолюция»[320]. С Григорием Евсеевичем, правда, не согласился Сталин. По заявлению генсека 1926 г., его формулировка о возможности «построения социализма в одной стране», собственно, «…и легла в основу известной резолюции XIV партконференции “О задачах Коминтерна и РКП(б)”, рассматривающей вопрос о победе социализма в одной стране в связи со стабилизацией капитализма […] и считающей построение социализма силами нашей страны возможным и необходимым»[321]. Пленум ЦК РКП(б), происходивший 23–30 апреля 1925 г., утвердил резолюции, принятые XIV конференцией РКП(б), в том числе и резолюцию «О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширенным пленумом ИККИ»[322].
В любом случае с момента выдвижения сталинской теории принципиальное выяснение вопроса стало делом времени: большевистская партия потому и была «большевистской», что длительные компромиссы ее вождей в вопросах стратегии были абсолютно невозможны.
По справедливому замечанию Виктора Сержа, «Зиновьев и Каменев несли ответ за несколько лет бесславной и безуспешной деятельности: две подавленные революции, в Германии и Болгарии, кровавый и глупый инцидент в Эстонии; внутри страны – возрождение классов, почти двухмиллионная безработица, нехватка товаров, скрытый конфликт между деревней и диктатурой, удушение всякой демократии; в партии чистки, репрессии (мягкие, но вызывающие возмущение из-за своей новизны), множащиеся низости по отношению к организатору победы, Троцкому. Было ясно, что Сталин разделял ответственность за все это, но он уклонился от нее, выступив против своих коллег по триумвирату. Зиновьев и Каменев пали буквально под тяжестью своих ошибок, и однако, по большому счету, в тот момент правота была на их стороне, мы это видели. Они выступали против импровизированной теории «социализма в отдельно взятой стране» во имя традиций международного социализма. […] Масса функционеров хотела жить спокойно, ничего больше»[323], и это тонко чувствовал Сталин.
Исходным пунктом этого принципиального противостояния Г.Е. Зиновьева большинству ЦК РКП(б) стала т. н. «стабилизация или частичная стабилизация международного капитализма»[324] (термин «коллективного руководства» 1925 г.) или «равновесие / относительное равновесие»[325] (ленинский термин 1921 г.). На XIV конференции РКП(б), проходившей 27–29 апреля 1925 г., было официально признано отсутствие «непосредственно-революционной ситуации»[326]. Объективно «стабилизация» подрывала курс большевиков на мировую революцию, субъективно – позиции Л.Д. Троцкого как ее главного «певца» (впрочем, его позиции во власти были подорваны уже довольно давно) и – главное для внутрипартийной жизни 1920‐х гг. – Г.Е. Зиновьева как председателя Исполкома Коминтерна. Поэтому естественно, что давний ленинский соавтор был категорически не согласен с заявлениями своих оппонентов о том, что налицо не «временная стабилизация», а «новый период капитализма»[327]. Его аргумент, впрочем, был достаточно веским: из российского опыта парадоксальным образом следовало, что «моменты подъема стачечного движения, сначала экономического, потом перераставшего в политическ[ое], очень часто совпадали как раз с моментами подъема промышленности»[328]. По мнению Зиновьева, «…коммунистическая партия, которая не сумела внедриться в массы в нынешний период затишья, в нынешней особенно тяжелой обстановке, не смогла бы стать во главе революционного движения тогда, когда создастся непосредственно-революционная ситуация»[329]. В своей теоретико-практической работе «Большевизация – стабилизация» Зиновьев декларировал: «Большевизация партий Коминтерна есть использование опыта большевистской партии в трех русских революциях (как и опыта других лучших секций Коминтерна) применительно к конкретной обстановке каждой данной страны»[330].
В январе 1925 г. на XXI Ленинградской конференции РКП(б) большевик Д.А. Саркис обвинил Н.И. Бухарина в синдикализме: «Мы читали в московской «Правде» статью т. Бухарина о рабочих и сельских корреспондентах. Такие взгляды, какие развивает т. Бухарин, в нашей организации не имеют сторонников. Но такие взгляды, можно сказать, взгляды своего рода синдикалистские, не большевистские, антипартийные, имеются у ряда даже ответственных товарищей […]. Взгляды эти трактуют о независимости и экстерриториальности разных массовых рабоче-крестьянских общественных организаций от коммунистической партии»[331]. Результатом стала, как сказал бы И.В. Сталин, «буря в стакане воды». Кончилось дело тем, что, как заявил Г.Е. Зиновьев на заседании фракционной «семерки» 17 февраля, «Саркис выступил уже в печати или имеет выступить на днях, с заявлением об извинении за допущенные им в своей речи на конференции недопустимые в данной партийной обстановке квалификации в отношении т. Бухарина, и о том, что он берет их назад»[332]. Григорий Евсеевич добавил на «семерке»: он, Зиновьев, «не сомневается, что Бюро Ленинградского губкома единогласно выскажется за необходимость такого заявления со стороны т. Саркиса»[333]. Д.А. Саркис действительно открыто покаялся в своей ошибке и дал основание И.В. Сталину как «главмиротворцу» заявить впоследствии: «Инцидент показал, что открытое признание своей ошибки является лучшим способом избе[жать] открытой дискуссии и изжить разногласия в порядке внутреннем»[334].
В апреле 1925 г. Н.И. Бухарин сделал в одном из официальных выступлений оговорку по Фрейду: он выдвинул лозунг «Обогащайтесь!»[335], который можно было трактовать как официальный переход от нэпа не к социализму, а к капитализму. Ошибочность этого лозунга Н.И. Бухарин к XIV съезду РКП(б) – ВКП(б), между прочим, успел признать трижды[336], однако для Г.Е. Зиновьева и ленинградской большевистской верхушки бухаринский лозунг стал формальным поводом для объявления войны большинству ЦК РКП(б). Член РСДРП с 1912 г. Н.К. Антипов намекнул, что Г.Е. Зиновьев «искусно» выбрал «удобный случай для того, чтобы стрельнуть через т. Бухарина в Центральный Комитет»[337]. Л.Б. Каменев «упрекал» И.В.Сталина в том, что он «вряд ли согласен с […] линией» Н.И. Бухарина, однако ее «прикрывал»[338]. Г.Е. Зиновьев обвинял Н.И. Бухарина и его «школу “молодых” профессоров»[339] («молодых бухаринцев»[340], лидерами которых были Александр Николаевич Слепков и Владимир Сергеевич Богушевский) в ревизии ленинизма, угрожавшей «союзу» пролетариата с беднейшим и средним крестьянством[341]. Показательно признание М.П. Томского в том, что вопрос о возможности «строительства социализма в одной стране […] сейчас как будто не является кардинальным»[342]. Однако при этом основания для дискуссии в РКП(б) были: Н.И. Бухарина, с точки зрения правоверных «марксистов-ленинцев», превзошел Иосиф Михайлович Варейкис, который в одной из своих брошюр договорился, по остроумному зиновьевскому замечанию, «до полного возрождения “самобытного” народничества, до утверждения, что община является у нас социалистической ячейкой»[343].
Г.Е. Зиновьев написал и тщательно отредактировал «Проект резолюции об идейных шатаниях», в которой обобщил критику, с одной стороны, Н.И. Бухарина с его лозунгом, с другой – ряда местных организаций РКП(б) за неумение или нежелание проводить жизнь «курс партии в деревенском вопросе»[344], а Л.Д. Троцкого – за «заимствование» наиболее «вредных ошибок у представителей обоих вышеочерченных уклонов»[345]. Общий вывод Зиновьева: «Указание партии на то, что нашим лозунгом не может быть в настоящий момент “разжигание классовой борьбы”, было и остается правильным. Рабочий класс не заинтересован в том, чтобы вызывать новую гражданскую войну в деревне. Партия отвергает разговоры о “новой революции в деревне” как политически ошибочные и вредные. Рабочее правительство слишком сильно для того, чтобы самому бросать сейчас лозунг разжигания классовой борьбы, которая по логике вещей быстро могла бы превратиться в гражданскую войну. Но это не значит, что следует затушевывать классовую борьбу, как это наблюдается в целом ряде выступлений»[346]. Проектом предусматривалось поручение Политбюро «принять все необходимые меры к неуклонной систематической борьбе с отступлениями от партийной жизни и обеспечить правильное толкование партийной линии в партийной печати, в работе агитпроп[агандистских отдел]ов и т. д.»[347].
Раскол в руководящем сталинско-зиновьевском ядре был обсужден на уже упомянутом нами Апрельском 1925 г. Пленуме ЦК РКП(б). 26 апреля Пленум ЦК направил «Закрытое письмо» местным парторганизациям (письмо подлежало возврату), в котором говорилось об имевших место разногласиях по отдельным вопросам – о Троцком и троцкизме, о комсомоле, однако в очередной раз подчеркивалось несокрушимое единство «ленинцев»:
«Пленум ЦК по-прежнему считает, что наша Ленинградская организация РКП является одной из лучших, наиболее сплоченных, наиболее заслуженных организаций, одним из главных оплотов ленинизма, одной из тех важнейших пролетарских организаций, являющихся основными центрами политической жизни страны, на которую всегда опирался и будет опираться наш ЦК.
Перед нашей партией стоят крупнейшие политические задачи. ЦК нашей партии напряженно работал последнее время над разрешением двух групп вопросов: а) вопросы, связанные с нашей крестьянской политикой (коминтерновские вопросы, вопросы сближения наших профсоюзов с английскими профсоюзами и т. д.). Надавние работы расширенного заседания Исполнительного Комитета Коминтерна, как и только что закончившиеся работы Пленума ЦК РКП, подготовлявшие решения по вопросам предстоящей Всесоюзной партконференции, и съездов Советов РСФСР и СССР, показали с полной наглядностью единодушие всего ленинского большинства Центрального Комитета.
По всем без исключения вопросам, стоявшим на очереди, обнаруживалось единодушие, не меньшее, чем то, какое большевизм обнаруживал при прежних поворотных моментах. Никаких существенных разногласий не обнаружено и не предвидится. Если в выступлениях отдельных членов Центрального Комитета в печати и бывали те или иные неизбежные оттенки, то они нисколько не мешали и не могут мешать совместной дружной работе (на всех этапах истории РСДРП – РСДРП (большевиков) – РКП(б) разговоры об «оттенках / оттенках мнений» скрывали обострение внутрипартийной борьбы. – С.В.).
Пленум ЦК призывает всех членов партии еще больше сплотить ряды и дать решительный отпор сеятелям слухов и сплетен, рассчитанных на дробление партии как партии ленинцев. Пленум ЦК уверен, что на основе принятых общепартийных решений подготовка предстоящего XIV съезда нашей партии пойдет особенно дружно и энергично – под знаменем ленинизма»[348].
Если бы «Пленум ЦК РКП(б)»[349] действительно явил миру единство «ленинских» рядов, то и требовать возвращения Закрытого письма в Секретариат ЦК было бы совсем необязательно.
Если для Г.Е. Зиновьева поводом к выяснению отношений явилась оговорка Н.И. Бухарина, то для И.В. Сталина – теоретическое сочинение Г.Е. Зиновьева «Философия эпохи», притом что книжка была согласована Зиновьевым с товарищами по ЦК РКП(б). Сам автор эпохального произведения, резонанс от выхода которого превзошел все ожидания, отвечая оппонентам, рассказал: «Теперь говорят, что вот Зиновьев выступил с платформой перед XIV съездом, дал целую “философию эпохи”. Взял, мол, написал платформу и, ни с кем не посоветовавшись, бах в печать. Позвольте на этом факте остановиться […]. Вот копия записки, которую я послал своему секретарю, когда статья была написана: “Экземпляр прошу послать Молотову, Куйбышеву, Сталину”. В получении статьи от Молотова и Куйбышева имеются расписки. Калинину статьи не дали, так как он куда-то выехал […]. Никого больше из наличных членов руководящего коллектива не было в Москве (Сталин и Бухарин были в отпуску, Томского тоже, кажется, не было в Москве). Налицо были Зиновьев, Каменев, Молотов, Куйбышев; через день приехал Калинин. [Статья] полторы или две недели обсуждалась. Так как часть товарищей в то время отсутствовала, и в частности отсутствовал т. Сталин, который был в отпуску, мне предложено было обождать. […] Я ответил, что подожду приезда, и подождал. Полторы или две недели эта статья лежала у товарищей. Затем на двух заседаниях ее редактировали, причем все предложенные поправки были мною приняты. Теперь говорят, что все в статье неправильно»[350].
Вождь народившейся Ленинградской оппозиции констатировал, что принял «все сделанные поправки» и статья была напечатана «с общего согласия»[351] членов ЦК. Зиновьев справедливо интересовался: «Если все это неправильно, почему же тогда» цекисты «не сказали, что это […] ликвидаторство, пораженчество и т. д.?»[352]
К вопросу о том, кто именно отзывался негативно о зиновьевской «Философии эпохи». И.В. Сталин в заявлении в ЦК РКП(б) на имя В.М. Молотова от 12 сентября 1925 г., раскритиковав книжку Г.Е. Зиновьева, дошел до обвинения товарища по Политбюро в меньшевизме: «Надо говорить не о неопределенном равенстве, а об уничтожении классов, о социализме. Называть нашу революцию “неклассической” – значит скатиться к меньшевизму. Статью надо переделать, по-моему, коренным образом, так, чтобы она не носила характера платформы к XIV съезду (курсив наш. – С.В.)»[353].
Стоит ли удивляться, что открытая дискуссия с определенного момента стала неизбежной? Лишь И.В. Сталин с его фарисейством мог усмотреть «платформу» в тексте, который был детально согласован Г.Е. Зиновьевым с ЦК РКП(б). Зиновьев, по свидетельству Сталина, лишь незадолго до съезда «после борьбы, после трений, после столкновений в ЦК» все же «решился» в докладе по отчету ЦК РКП(б) в Ленинграде «высказаться за лозунг прочного союза с середняком»[354]. (Будучи последователен в собственном фарисействе, генсек позднее застращал съезд угрозой, что ленинградский лидер может по идеологическим соображениям «колебнуться еще разочек»[355].)
17 сентября 1925 г. Г.Е. Зиновьев, судя по дате в предисловии, закончил работу над своей книгой «Ленинизм. Введение в изучение ленинизма», к которой дала «ряд ценнейших советов»[356] Н.К. Крупская. В данной книге была особенно актуальна 14‐я глава «Ленинизм и вопрос о победе социализма в одной стране», в которой со всеми необходимыми ссылками на труды вождя мировой революции делался четкий вывод: «1. Неравномерность и скачкообразность развития капитализма (в особенности, его империалистического периода) создает объективную возможность победоносного выступления пролетариата первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой стране. 2. Эта одна страна обязательно должна принадлежать к числу самых развитых в капиталистическом отношении стран. Возможно такое своеобразное сочетание обстоятельств, когда первая победоносная пролетарская революция происходит в стране, в капиталистическом отношении сравнительно отсталой, – что и доказано историей русской революции. 3. Никакой “ультраимпериализм” не может изменить вышеприведенных двух законов; напротив, он только усугубляет их. 4. Из этого вытекает необходимость для пролетарских революционеров, работая над подготовкой международной революции, не откладывать революционных выступлений пролетариата одной страны (раз только складываются благоприятные обстоятельства для такого выступления) до того момента, пока станет возможным одновременное выступление рабочего класса ряда стран. 5. Одержав победу в одной стране, пролетариат этой страны должен сделать максимум возможного для поддержки и развития революционного движения в международном масштабе, памятуя, что окончательная победа социализма невозможна в одной стране, что окончательная победа социалистического строя над капиталистическим решается в международном масштабе. […] Этого последнего Ленин не забывал ни на одну минуту»[357].
На Октябрьском 1925 г. Пленуме ЦК РКП(б) и в его кулуарах был оформлен раскол внутри «ленинского» (то есть настроенного против Л.Д. Троцкого) ядра партии. По признанию Зиновьева, Пленум стал «важнейшим этапом внутренней борьбы»[358], которому «предшествовали страстные прения (устные и письменные) “четверки” и “девятки” [соотношение цекистов и цекакистов – зиновьевцев и, если так можно выразиться, “сталино-бухаринцев”. – С.В.], главным образом по вопросу о крестьянстве. В апреле 1925 г. раздались лозунги Бухарина “обогащайтесь”, “меньше ограничений кулаку”, “кулак врастает в социализм”. Сталин заговорил о 40‐летней аренде земли. Вокруг этих лозунгов быстро сформировалась школа “молодых [академиков]” и началась проповедь “расширения нэпа в деревне” ([А.Н.] Слепков), “нового этапа нэпа” ([Алексей Иванович] Стецкий), “кулак – жупел” ([В.С.] Богушевский). Ленинградцы выступили против этих извращений ленинской политики. Однако, статьи Н.К. Крупской и Каменева не были напечатаны. Заявление “четырех” объявили платформой».
1 октября Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.К. Крупская и Г.Я. Сокольников направили членам «руководящего коллектива» записку, которая впоследствии именовалась «Платформой 4‐х». Политика ЦК в деревне признавалась в этом документе «политической ошибкой», направленной «в сторону забвения классовой борьбы, в сторону оппортунизма». Кроме того, резкой критике была подвергнута сталинская теория «построения социализма в одной стране»[359].
Обстановку, в которой проходили Пленум ЦК, вполне передает заявление Н.К. Крупской, «с товарищеским приветом»[360] направленное 2 октября «тт. Сталину, Бухарину, Рыкову, Молотову, Куйбышеву, Фрунзе, Томскому»:
«Уважаемые товарищи, вчера т. Бухарин обратился ко мне с предложением поговорить “с нами”. Кто эти “мы”, я не спросила, но само собой ответила согласием.
Через несколько часов я получила отказ в якобы испрашиваемой аудиенции.
При этом я обвиняюсь в том, что я не сделала ни малейшей попытки переговорить со сторонниками большинства ЦК и подписала фракционную платформу, нападающую на ЦК. Вы не читали разве препроводительной записки? Она гласит: “Ввиду ряда споров по принципиальным вопросам, возникшим в последнее время, запрещения печатания статей и т. д., мы считаем абсолютно необходимым изложить перед вами наше мнение по некоторым основным спорным вопросам политики.
Нижеследующее представляет черновую формулировку некоторых основных положений того доклада, который мы хотим сделать вам. Если вы признаете необходимость (как признаем ее мы) официально от имени партии отговориться от наметившихся ошибок, то резолюция должна быть написана, конечно, в иных выражениях (с учетом публикации ее, впечатления на крестьянство и т. д.) и, конечно, без упоминания членов ЦК”.