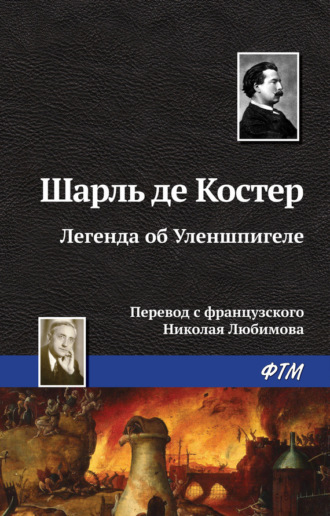
Шарль де Костер
Легенда об Уленшпигеле
В этой части – как и в публицистике де Костера – голос писателя сливается с голосом его героя, и порою де Костер даже говорит от имени «нас». Обширные рассуждения и речи Тиля учащаются. Они усиливают публицистический, политически откровенный и призывный характер последних книг романа. Уленшпигель превращается в комментатора событий, агитатора, разъясняющего Ламме, гёзам, читателю суть того, что происходит, пытающегося воздействовать на них, вовлечь в борьбу – точно так же, как это делал Уленшпигель – де Костер на страницах журнала «Уленшпигель».
В заключительных книгах мышление героя образно, мысли и чувства воплощаются в картинах природы, в аллегорических сценах. Вот Тиль готовится отомстить рыбнику, убийце, потерявшему человеческий облик. В душе Тиля – буря ненависти, жажда мести, предельное напряжение. Все это становится ясным для читателя не из характеристики внутреннего состояния героя, но из обращения Тиля к черным тучам, грохочущему морю, завывающему ветру, из того, что «он не видел ничего, кроме черных туч, с безумной быстротой мчавшихся по небу, и приземистой, короткой, коренастой черной фигуры, приближавшейся к нему, и не слышал ничего, кроме жалобного завывания ветра, и бушующего моря, и скрипа усеянной ракушками тропинки под тяжелыми неровными шагами». Герой де Костера, безусловно, наделен творческим воображением, его мышление конкретно, образно, в сознании Тиля постоянно возникают живописные картины, он тонко чувствует природу. К концу романа обнаруживается, что Тиль – поэт и в тексте книги немало песен Тиля.
«Легенда об Уленшпигеле…» преимущественно состоит из небольших главок, каждая из которых относительно самостоятельна, напоминает отдельную новеллу, раскрывающую героя в том или ином происшествии, в той или иной истории. Главы-новеллы имеют свою композиционную завершенность, часто – свой «зачин», как правило, – свою концовку, вывод, соответствующее случаю назидание («так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки», «так извлекает хитрец выгоду из чужой распри» и т. п.). Роман же близок циклу новелл, объединенных в одно целое. Можно заметить «швы» там, где «традиционный» Тиль сочетается с созданным де Костером образом гёза.
Шарль де Костер назвал свою книгу «легендой». Это и есть «легенда», но особенная, герои ее возвышаются до символа вечно юного, вечно живого народа. С этим связаны многие ее особенности. Прорицания, видения в романе не только передают наивные народные верования, но и выявляют аллегоричность романа. Не случайно ключевое место в его построении занимает чудесное общение Тиля с духами, побуждающее героя искать Семерых и подготавливающее к заключительным главам книги, где Тиль превращается из человека во плоти в неумирающий «дух» Фландрии.
Здесь очевидна связь с ранним творчеством самого де Костера. Однако если ранее романтические художественные средства порой доминировали, то ныне, в «Легенде об Уленшпигеле…», они вписываются в реалистическое произведение, основывающееся на принципе типизации общественного содержания эпохи, на отражении этого содержания в характере героя, в социально-психологическом типичном образе. Социально-историческая и национальная конкретизация среды, обстановки, героев, проникновение в сущность эпохи составляют главную особенность творческой эволюции де Костера – от первых рассказов к «Легенде об Уленшпигеле…» и от первой книги «Легенды» к последующим, где Тиль Уленшпигель – прежде всего Тиль – предстает как гиперболизированный, подлинно национальный характер, а сама книга с ее контрастностью, патетикой, гротеском, аллегорией, – как романтическая легенда.
В дальнейшем де Костер издал еще несколько рассказов, а в 1870 году – роман из современной жизни, «Свадебное путешествие», однако в истории литературы писатель остался автором одной книги, в которой запечатлена судьба Фландрии в трагический и одновременно героический период ее истории и герой которой явился олицетворением непобедимого народного духа.
После «Легенды об Уленшпигеле…» и до смерти 7 мая 1879 года, то есть в течение последних 12 лет жизни, де Костер, уже создавший «национальную библию», оставался столь же безвестным и столь же бедным, как ранее. Материально поддерживала писателя мать. Безрезультатно добивался де Костер места библиотекаря в Гентском университете. Ему приходилось просить денег у правительства, чтобы расплатиться с долгами. Он умер, не дожив до 52 лет, и уже в этом возрасте, возрасте расцвета и зрелости для писателя, был «изнурен трудом, лишениями, заботами, болезнью».
Л. Андреев
Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях
Предисловие совы
Уважаемые художники, глубокоуважаемые издатели, уважаемый поэт! Я принуждена сделать несколько замечаний по поводу вашего первого издания. Как? Во всей этой толстой книге, в этом слоне, которого вы в количестве восемнадцати человек[1] пытались направить на путь славы, не нашлось хотя бы крошечного местечка для птицы Минервы[2], для мудрой, для благоразумной совы? В Германии и в вашей же любимой Фландрии я постоянно путешествую на плече Уленшпигеля, который, кстати сказать, и прозван так потому, что имя его означает сову и зеркало, мудрое и забавное, uyl еп spiegel. Жители Дамме[3], где, как говорят, он родился, произносят Ulenspiegel – тут действуют правило стяжения гласных и привычка произносить иу как и. Это их дело.
Вы придумали другое объяснение: Ulen (вместо Ulieden) Spiegel – это, дескать, ваше зеркало, ваше, смерды и дворяне, управляемые и правящие, зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Остроумно, но опрометчиво. Никогда не следует порывать с традицией.
Быть может, вам показалась странной самая мысль представить мудрость в виде, по вашему мнению, мрачной и уродливой птицы – педантки в очках, ярмарочной лицедейки, подруги мрака, которая неслышно, как сама смерть, налетает и убивает. И все же, насмешники в обличье добродушия, у вас есть нечто общее со мной. И в вашей жизни была такая ночь, когда кровь текла рекой под ножом злодейства, тоже подкравшегося неслышно. Разве не было в жизни каждого из вас мглистых рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? На чем основывается ваша политика с тех пор, как вы властвуете над миром? На резне и бойне.
Я, сова, безобразная сова, убиваю, чтобы прокормиться самой и чтобы прокормить моих птенцов, – убийством ради убийства я не занимаюсь. Вы обвиняете меня в том, что я иной раз уничтожаю птичий выводок, ну а вы истребляете все живущее. В своих книгах вы с умилением рассказываете о птичках – о том, как они быстрокрылы, как они красивы, как они любятся, как искусно вьют гнездышки, как тревожится мать за своих птенчиков, и тут же даете советы, под каким соусом надо подавать птичек и в какое время года они особенно вкусны. Я не сочинительница, упаси меня Бог, а то бы я про вас написала, что, когда вам не удается сожрать птичку, вы грызете гнездышко – лишь бы поточить зубы.
Что же касается тебя, шалый поэт, то в твоих же интересах признать мое соавторство, – ведь по меньшей мере двадцать глав в твоем произведении принадлежат мне[4], остальное я безоговорочно уступаю в твою пользу. Отвечать за все глупости, выпускаемые в свет, право, не так уж весело. Забияка-поэт, ты крушишь подряд всех, кого ты называешь душителями твоего отечества, ты пригвождаешь к позорному столбу истории Карла V[5] и Филиппа II[6]. Нет, ты не сова, ты неосторожен. Ты ручаешься, что Карлы Пятые и Филиппы Вторые перевелись на свете? Ты не боишься, что бдительная цензура усмотрит во чреве твоего слона намеки на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь прах императора и короля? Зачем ты лаешь коронованных особ? Не напрашивайся на удары – от ударов же и погибнешь. Кое-кто тебе не простит этого лая, да и я не прощу – ты портишь мне мое мещанское пищеварение.
Ну к чему ты так настойчиво противопоставляешь ненавистного короля, с малолетства жестокого, – на то он и человек, – фламандскому народу, который ты стремишься изобразить доблестным, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Откуда ты взял, что народ был хорош, а король дурен? Мне ничего не стоит тебя разубедить. Твои главные действующие лица, все без исключения, либо дураки, либо сумасшедшие: озорник Уленшпигель с оружием в руках борется за свободу совести; его отец Клаас гибнет на костре за свои религиозные убеждения; его мать Сооткин умирает после страшных пыток, которые ей пришлось вынести из-за того, что она хотела уберечь для сына немного денег; Ламме Гудзак всегда идет прямым путем, как будто быть добрым и честным – это самое важное в жизни. Маленькая Неле хоть и недурна собой, а все же однолюбка… Ну где ты теперь встретишь таких людей? Право, если б ты не был смешон, я бы тебя пожалела.
Впрочем, должна сознаться, что наряду с этими сумасбродами ты вывел несколько лиц, которые пришлись мне по душе: это испанские вояки; монахи, жгущие народ; фискалка Жиллина; жадюга-рыбник, доносчик и оборотень; дворянчик, по ночам прикидывающийся бесом, чтобы соблазнить какую-нибудь дурочку, а главное, нуждавшийся в деньгах хитроумный Филипп II, подстроивший разгром церквей, чтобы потом наказать мятежников, которых он сам же сумел подстрекнуть. На что только не пойдет человек, если он объявлен наследником всех им убиваемых!
Но, кажется, я бросаю слова на ветер. Ты, может быть, не знаешь, что такое сова. Сейчас я тебе объясню.
Сова – это тот, кто исподтишка клевещет на людей, неугодных ему, и кто в случае, если его привлекают к ответственности, не преминет благоразумно заявить: «Я этого не утверждал. Так говорят…» Сам же он прекрасно знает, что «говорят» – это нечто неуловимое.
Сова любит соваться в почтенные семьи, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет взаймы, иногда – без отдачи, а как скоро убеждается, что взять больше нечего, то исчезает бесследно.
Сова – это политик, который надевает на себя личину свободомыслия, неподкупности, человеколюбия и, улучив минутку, без всякого шума вонзает нож в спину какой-нибудь одной жертве, а то и целому народу.
Сова – это купец, который разбавляет вино водой, который торгует недоброкачественным товаром и, вместо того чтобы напитать своих покупателей, вызывает у них расстройство желудка, вместо того чтобы привести их в благодушное настроение, только раздражает.
Сова – это тот, кто ловко ворует, так что за шиворот его не схватишь, кто защищает виноватых и обвиняет правых, кто пускает по миру вдову, грабит сироту и, подобно тому как другие купаются в крови, купается в роскоши.
Сова – это та, что торгует своими прелестями, развращает невинных юношей – это у нее называется «развивать» их – и, выманив у них все до последнего гроша, бросает их в том самом болоте, куда она же их и завлекла.
Если какой-нибудь сове кое-когда взгрустнется, если она вдруг вспомнит, что она – женщина, что и она могла бы быть матерью, то я от нее отрекаюсь. Если, устав от такой жизни, она бросается в воду, значит, она сумасшедшая, значит, ей и незачем жить на свете. Посмотри вокруг себя, поэт из захолустья, и ты увидишь, что сов на свете гибель. Сознайся, что неблагоразумно было с твоей стороны нападать на Силу и Коварство, на этих венчанных сов. Подумай о грехах своих, произнеси теа culpa[7] и на коленях вымоли прощение.
Мне, однако, нравится твоя легкомысленная доверчивость. Вот почему, изменяя своей всем известной привычке, я все же почитаю за нужное тебя предуведомить – предуведомить о том, что я поспешу указать на резкость и дерзость твоего слога моим литературным родичам, а это люди осмотрительные и исполнительные, сильные своими перьями, клювом и очками, умеющие придавать самую очаровательную, самую благопристойную форму тем любовным историям, которые они рассказывают юношеству и которые зародились отнюдь не только на острове Киферы[8], умеющие в течение часа неприметно разогреть кровь у кого угодно, хоть у твердокаменной Агнессы[9]. О дерзновенный поэт, ты, что так любишь Рабле и старых мастеров! Эти люди имеют перед тобой то преимущество, что, шлифуя французский язык, они в конце концов сотрут его окончательно.
Ухалус Посовиномус
Книга первая
1
Во Фландрии, в Дамме, когда май уже распускал лепестки на кустах боярышника, у Клааса родился сын Уленшпигель.
Повитуха Катлина завернула его в теплые пеленки и, осмотрев головку, показала на кожицу.
– В сорочке родился, под счастливой звездой! – весело сказала она. Но тут же заохала, заметив на плече ребенка черное пятнышко. – Ай-ай-ай! – запричитала она. – Эта черная отметина – след чертова когтя.
– Стало быть, господин сатана нынче поднялся спозаранок, коли уже успел поставить на моем сыне метку, – молвил Клаас.
– Да он и не ложился, – подхватила Катлина, – певец зари только-только еще будит кур.
С этими словами, передав младенца с рук на руки Клаасу, она удалилась.
Вслед за тем сквозь ночные облака пробилась заря, ласточки, щебеча, залетали низко-низко над лугом, и наконец на востоке солнце явило в море багрянца свой ослепительный лик.
Клаас растворил окно и сказал Уленшпигелю:
– Мой в сорочке родившийся сын! Вот его светлость солнце приветствует Фландрскую землю. Как прозреешь – погляди на него, а когда-нибудь потом, если тебя вдруг одолеют сомнения и ты не будешь знать, как поступить, спроси у него совета. Оно ясное и горячее. Будь же настолько чист сердцем, насколько ясно солнце, и настолько добр, насколько оно горячо.
– Клаас, муженек, ведь ты поучаешь глухого, – заметила Сооткин. – На-ка, попей, сынок.
С этими словами мать подставила новорожденному свои прекрасные естественные сосуды.
2
Пока Уленшпигель сосал ее грудь, в поле проснулись все пташки.
Клаас вязал хворост, а сам поглядывал, как его благоверная кормит Уленшпигеля.
– Жена, – сказал он наконец, – а что, молочка у тебя довольно?
– Кувшины полны, – отвечала она, – да вот радость-то моя не полна.
– Такой счастливый день, а ты пригорюнилась.
– Я вот о чем думаю: в кошеле у нас – вон он висит на стене – монетки какой завалящей и той нет.
Клаас снял кошель, но как он его ни встряхивал, звона, услаждающего слух, в ответ так и не раздалось. Это озадачило Клааса. Но он все же счел своим долгом успокоить благоверную.
– Не тужи! – сказал он. – В ларе у нас лепешки, – вчера Катлина принесла, – так? Вон я вижу здоровенный кусок мяса – тут ребенку дня на три молочка хватит, – правда? В углу притулился мешок с бобами, он нам с голоду помереть не даст, – верно? А горшок с маслом померещился мне, что ли? А на чердаке у нас яблоки румяные в полном боевом порядке выложены десятками – ведь не во сне же я их видел? А бочонок брюггского kuyte[10] – разве этот толстяк, у которого в брюхе живительная влага, не сулит нам гульбы?
– Да ведь надо будет два патара священнику отдать да флорин[11] в церковь – за крестины, – сказала Сооткин.
Тут с большущей охапкой травы вошла Катлина и сказала:
– Для младенчика в сорочке я принесла дягиля – он хранит человека от распутства – и укропа – укроп сатану отгоняет…
– А травы, что привораживает флорины, ты не принесла? – спросил Клаас.
– Нет, – отвечала та.
– Ну так я пойду погляжу, нет ли ее в канале.
Клаас взял удочку, сеть и вышел из дому в полной уверенности, что никого по дороге не встретит: ведь до oosterzon’a[12] – так во Фландрии называется шестой час утра – оставался еще целый час.
3
Клаас подошел к Брюггскому каналу, неподалеку от моря. Наживив удочку, он забросил ее в воду и закинул сеть. На том берегу нарядный мальчуган спал как убитый на холмике из ракушек.
Клаас нечаянно разбудил мальчугана, и тот, вообразив, что это стражник, что он сейчас поднимет его с ложа и как бродягу отведет в steen[13], чуть было не задал стрекача.
Однако, узнав Клааса, мальчик быстро успокоился, а Клаас крикнул ему:
– Хочешь заработать шесть лиаров[14]? Гони рыбу ко мне.
Мальчуган, уже довольно пузатенький, вошел в воду и, вооружившись стеблем камыша с пышной метелкой, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.
Наловив рыбы, Клаас взял удочку и сеть и перешел через шлюз к мальчугану.
– Ведь это тебе дали при крещении имя Ламме и прозвали Гудзаком[15] за твое добродушие, а живешь ты на Цапельной улице за собором Богоматери? – спросил он. – Как же это ты, такой маленький и такой нарядный мальчик, спишь под открытым небом?
– Ах, господин угольщик! – отвечал мальчуган. – Дома у меня сестра; она моложе меня на год, но когда мы с ней ссоримся, она меня лупит по чему ни попало. Отыграться на ее спине я, сударь, боюсь – как бы не сделать ей больно. Вчера вечером мне очень хотелось есть, за ужином я стал подчищать пальцами блюдо, на котором было подано тушеное мясо с бобами, и, глядя на меня, она тоже к нему потянулась. А там мне и одному-то было мало, сударь. Как увидела она, что я облизываюсь, – уж больно вкусная была подливка, – ну прямо взбесилась: таких мне увесистых оплеух надавала, что я, еле живой, бросился вон из дома.
Клаас осведомился, что же делали отец и мать в то время, как сестра хлестала его по щекам.
На это Ламме ответил так:
– Отец похлопал меня по одному плечу, мать по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка!» А я не хотел бить маленькую девочку и убежал.
Внезапно он побледнел и задрожал всем телом.
И тут Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка, и лицо у этой девочки злое.
– Ай! – крикнул Ламме и уцепился за штаны Клааса. – Это мать и сестра меня ищут. Заступитесь за меня, господин угольщик!
– Вот что, – сказал Клаас, – возьми сперва семь лиаров за работу, а теперь смело пойдем к ним навстречу.
Увидев Ламме, мать и сестра бросились на него с кулаками: мать – от беспокойства, сестра – по привычке.
Ламме спрятался за Клааса и крикнул:
– Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!
Но мать уже обнимала его, а девчонка пыталась разжать ему кулак и отнять деньги.
Ламме кричал:
– Мои деньги, не дам!
И еще крепче сжимал кулак.
Клаас за уши оттащил от него девчонку и сказал ей:
– Брат у тебя добрый и кроткий, как ягненок, и если ты еще когда-нибудь на него налетишь, я тебе уши драть не стану, а упрячу в черную угольную яму; за тобой туда придет красный черт из пекла и своими когтищами и зубами, длинными, как рогатки, раздерет тебя на мелкие кусочки.
Девчонка не смела поднять глаза на Клааса, не смела подойти к брату – она схоронилась за материнскую юбку. Но в городе она сейчас же подняла крик:
– Угольщик меня побил! У него в погребе черт!
Однако больше она уже не била брата – она только заставляла его все за нее делать. Безответный простачок охотно ей повиновался.
А Клаас отнес рыбу в ту усадьбу, где у него всегда ее покупали. Дома он сказал Сооткин:
– Вот что я нашел в брюхе у четырех щук, у девяти карпов и в полной корзине угрей.
С этими словами он бросил на стол два флорина и патар.
– Почему же ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю, муженек? – спросила Сооткин.
– А чтобы самому не попасться в сеть к стражникам, – отвечал Клаас.
4
В Дамме отца Уленшпигеля Клааса все звали kooldraeger’ом, то есть угольщиком. Волосы у него были черные, глаза – блестящие, кожа – под цвет его товара, за исключением воскресных и праздничных дней, когда мыла у него в лачуге полагалось не жалеть. Это был приземистый, плечистый здоровяк с веселыми глазами.
Когда, на склоне дня и с наступлением вечера, он отправлялся по Брюггской дороге в таверну промыть пивцом свою черную от угольной пыли глотку, женщины, на порогах домов дышавшие свежим воздухом, приветствовали его:
– Добрый вечер, угольщик! Светлого тебе пива!
– Добрый вечер! Неутомимого вам супруга! – отзывался Клаас.
Девушки, гурьбой возвращавшиеся с поля, загораживали ему дорогу и говорили:
– Что дашь за пропуск? Алую ленту, золотые сережки, бархатные сапожки или флорины в копилку?
Клаас обнимал какую-нибудь из них, целовал – иногда в свежую щечку, иногда в шейку, в зависимости от того, что было ближе к его губам, – а потом говорил:
– Остальное, душеньки, дополучите со своих возлюбленных.
И девушки с хохотом убегали.
Дети узнавали Клааса по его громкому голосу и топоту сапог. Они бросались к нему с криком:
– Добрый вечер, угольщик!
– Храни вас Господь, ангелочки! – говорил Клаас. – Только не подходите ко мне близко, иначе я вас в арапчат превращу.
Но малыши – народ смелый: они все-таки подходили; тогда Клаас хватал одного из них за курточку и проводил своей черной пятерней по его румяной мордашке, а затем, к великой радости остальных, отпускал и сам при этом заливался хохотом.
Сооткин, супружница Клааса, была женщина хорошая: вставала вместе с солнышком и трудилась, как муравей.
Свой участок они обрабатывали вдвоем с Клаасом, оба впрягались в плуг, точно волы. Нелегко им было тащить плуг, но еще тяжелее – борону, когда деревянные зубья этого земледельческого орудия разрыхляли сухую землю. И все же работали они весело, с песней на устах.
И как ни суха была земля, как ни жгло их палящими лучами солнце, как ни выбивались они из сил, таща борону, и как ни подгибались у них колени, а во время роздыха Сооткин подставляла Клаасу милое свое лицо, Клаас целовал это зеркало ее нежной души, и оба они забывали о своей страшной усталости.


