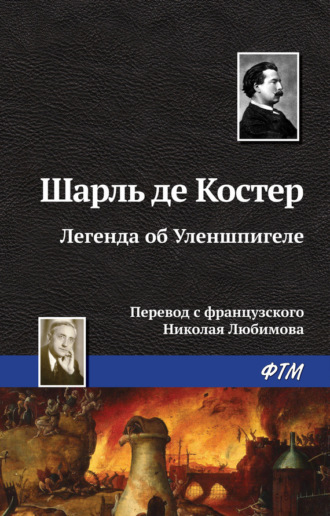
Шарль де Костер
Легенда об Уленшпигеле
– Сходи, жена, – сказал хозяин.
Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, а тот все еще высчитывал, как бы это ему побольше выгадать. Когда они вошли к нему, он сердито замахал на них руками, чтобы они удалились, и сказал трактирщице:
– Не беспокойся, дня через два я помогу твоему мужу.
По дороге в «Охотничий Рог» Уленшпигель сказал себе: «Он уплатит семь флоринов, и это будет моя первая заупокойная служба».
И он и слепые поспешили покинуть трактир.
36
На другой день Уленшпигель пристал к толпе богомольцев, двигавшейся по большой дороге, и узнал от них, что в Альземберге нынче богомолье.
Нищие старухи шли босиком, задом наперед – они подрядились за флорин искупить грехи каких-то знатных дам. По краям дороги под звуки скрипиц, альтов и волынок паломники обжирались мясом и натягивались bruinbier’oм. Аппетитный запах рагу благовонным дымом возносился к небу.
Другие богомольцы, разутые, раздетые, шли тоже задом наперед, за что получали от церкви шесть солей.
Какой-то лысый коротышка с вытаращенными глазами и свирепым выражением лица прыгал за ними тоже задом наперед и все твердил молитвы.
Намереваясь вызнать, что это ему вздумалось подражать ракам, Уленшпигель стал перед ним и, ухмыляясь, запрыгал точь-в-точь как он. И вся эта пляска шла под звуки скрипиц, дудок, альтов и волынок, под стенания и бормотание паломников.
– Эй, голова как коленка, чего это ты так бегаешь? Чтобы вернее упасть? – спросил Уленшпигель.
Человечишка ничего не ответил и продолжал бормотать молитвы.
– Наверно, хочешь узнать, сколько деревьев по краям дороги, – высказал предположение Уленшпигель. – А может, ты и листья считаешь?
Человечишка, читавший в это время «Верую», сделал знак Уленшпигелю, чтобы тот замолчал.
– А может, – не унимался Уленшпигель, все так же прыгая перед его носом и передразнивая его, – ты спятил и оттого ходишь не по-людски? Впрочем, кто добивается от дурака разумного ответа, тот сам дурак. Верно я говорю, облезлый господин?
Человечишка по-прежнему ничего ему не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать и так при этом топотал, что дорога под ним гудела, как пустой ящик.
– Вы что, милостивый государь, немой? – спросил Уленшпигель.
– Богородице, Дево, радуйся… – бубнил человечек, – благословен плод чрева твоего…
– А может, ты еще и глухой? – спросил Уленшпигель. – Сейчас проверим. Говорят, будто глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Посмотрим, из чего у тебя сделаны барабанные перепонки – из кожи или из железа. Ты воображаешь, огрызок, пирог ни с чем, что ты похож на человека? Ты тогда станешь похож на человека, когда людей будут делать из тряпья. Ну где можно увидеть такую желтую харю, такую лысую башку? Только на виселице. Ты, уж верно, когда-нибудь висел?
Уленшпигель все плясал, а человечишка, придя в раж, отчаянно прыгал задом наперед, с плохо сдерживаемой яростью бормоча молитвы.
– А может, – продолжал Уленшпигель, – ты не понимаешь книжного фламандского языка? Ну так я заговорю с тобой на языке простонародья: коли ты не обжора, то пьяница, а коли не пьяница, то водохлеб, а коли не водохлеб, то у тебя лютый запор, а коли не запор, то понос, а коли нет у тебя поноса, то ты потаскун, а коли не потаскун, то каплун, а коли есть на свете умеренность, то она обитает где угодно, только не в бочке твоего пуза, и коли на тысячу миллионов человек, живущих на земле, приходится один рогоносец – это, верно, ты.
Но тут Уленшпигель грохнулся задом об землю и задрал ноги кверху, ибо человечишка так двинул его по носу, что у него искры из глаз посыпались. Толщина не помешала человечишке в ту же минуту навалиться на Уленшпигеля и начать охаживать его. Под градом ударов, сыпавшихся на его тощее тело, Уленшпигель невольно выпустил из рук посох.
– Ты у меня забудешь, как морочить голову порядочным людям, идущим на богомолье, – приговаривал человечишка. – Я, было бы тебе известно, иду по обычаю в Альземберг помолиться Божьей Матери о том, чтобы моя жена скинула младенца, зачатого в мое отсутствие. Дабы испросить столь великую милость, надобно с двадцатого шага от своего дома и до нижней ступеньки церковной лестницы плясать молча, задом наперед. А теперь вот начинай все сначала!
Уленшпигель за это время успел поднять посох.
– А я тебя сейчас отучу, негодяй, обращаться к царице небесной с просьбой убить младенца во чреве матери! – воскликнул Уленшпигель и так отдубасил злого рогача, что тот замертво свалился на землю.
А к небу по-прежнему возносились стенания богомольцев, звуки дудок, альтов, скрипиц и волынок и, подобно чистому фимиаму, запах жареного.
37
Клаас, Сооткин и Неле сидели у камелька и говорили о странствующем страннике.
– Девочка! – молвила Сооткин. – Неужто чары твоей юности не могли удержать его?
– Увы, не могли! – отвечала Неле.
– Это потому, что какие-то другие чары принуждают его вечно шататься – ведь он сидит на месте, только когда трескает, – заметил Клаас.
– Бессердечный урод! – со вздохом проговорила Неле.
– Бессердечный – это правда, но не урод, – возразила Сооткин. – Если у моего сына Уленшпигеля не греческий и не римский профиль, то это еще полбеды. Зато у него фламандские быстрые ноги, острые карие глаза, как у франка из Брюгге, а нос и рот точно делали две лисы, до тонкости изучившие хитрое искусство ваяния.
– А кто сотворил его ленивые руки и его ноги, прыткие, когда его манят забавы? – спросил Клаас.
– Его еще очень юное сердце, – отвечала Сооткин.
38
Катлина вылечила целебными травами по просьбе Спейлмана его быка, трех баранов и свинью, но вылечить корову Яна Белуна ей не удалось. Тогда он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она испортила корову: когда она давала ей травы, то, дескать, гладила ее и говорила с ней на каком-то, очевидно, бесовском языке, ибо истинному христианину не должно разговаривать с животными.
Вышеназванный Ян Белун к этому присовокупил, что у его соседа Спейлмана она вылечила быка, баранов и свинью, а что его корову она отравила, разумеется, по наущению Спейлмана, который позавидовал, что его, Белуна, земля возделана лучше, нежели у него, и лучше родит. На основании показаний Питера Мелемейстера, человека во всех отношениях достойного, и самого Яна Белуна, засвидетельствовавших, что весь Дамме почитает Катлину за колдунью и что, вне всякого сомнения, это она отравила корову, Катлина была взята под стражу, и ее велено было пытать до тех пор, пока она не сознается в своих преступлениях и злодеяниях.
Допрашивал ее старшина, который всегда был раздражен, оттого что целый день пил водку. По его приказу Катлина предстала перед ним и перед членами Vierschare[64] и была подвергнута первой пытке.
Палач раздел ее донага, сбрил все волосы на ее теле и всю осмотрел – нет ли где какого колдовства.
Ничего не обнаружив, он привязал ее веревками к скамье.
– Мне стыдно лежать голой перед мужчинами, – сказала Катлина. – Пресвятая Богородица, пошли мне смерть!
Палач прикрыл ей мокрой простыней грудь, живот и ноги, а затем, подняв скамейку, стал вливать в горло Катлине горячую воду – и влил так много, что она вся словно разбухла. Потом опустил скамью.
Старшина спросил, признает ли Катлина себя виновной. Она знаком ответила, что нет. Палач влил в нее еще горячей воды, но Катлина все извергла.
Тогда по совету лекаря ее развязали. Она ничего не могла сказать – она только била себя по груди, давая понять, что горячая вода обожгла ее. Когда же старшина нашел, что она оправилась после первой пытки, он снова обратился к ней:
– Сознайся, что ты колдунья и что ты испортила корову.
– Нипочем не сознаюсь, – объявила Катлина. – Я люблю животных, люблю всем своим слабым сердцем, я скорей себе наврежу, только не им, беззащитным. Я лечила корову целебными травами – от них никакого вреда быть не может.
Но старшина стоял на своем:
– Ты дала корове отравы, иначе бы она не пала.
– Господин старшина, – возразила Катлина, – я сейчас вся в вашей власти и все же смею вас уверить: костоправы и лекари что человеку, что скотине не всегда помогают. Клянусь вам Христом-Богом, распятым на кресте за наши грехи, что я этой корове зла не желала – я хотела ее вылечить целебными травами.
Старшина рассвирепел:
– Вот чертова баба! Ну да она у меня сейчас перестанет запираться! Начать вторую пытку!
С последним словом он опрокинул большущий стакан водки.
Палач посадил Катлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка, сделанная в виде кровли, оканчивалась острым щипцом. Дело было в ноябре – печка топилась вовсю.
Катлину, сидевшую на режущем деревянном щипце, как на лезвии ножа, обули в совсем новенькие тесные сапоги и пододвинули к огню. Как скоро острый деревянный щипец гроба впился в ее тело, как скоро и без того тесные сапоги от жары еще сузились, Катлина крикнула:
– Ой, больно, мочи нет! Дайте мне яду!
– Еще ближе к огню, – распорядился старшина и приступил к допросу: – Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на деревьях, как часто губила младенцев во чреве матери? Как часто превращала родных братьев в заклятых врагов, а родных сестер – в злобных соперниц?
Катлина хотела ответить, но не могла, – она только шевельнула руками.
– Вот мы сейчас растопим ее ведьмовский жир, так небось заговорит, – произнес старшина. – Пододвиньте ее еще ближе к огню.
Катлина кричала.
– Попроси сатану – пусть он тебя охладит, – сказал старшина.
Она сделала такое движение, будто хотела сбросить дымившиеся сапоги.
– Попроси сатану – пусть он тебя разует, – сказал старшина.
Пробило десять часов – в это время изверг обыкновенно завтракал. Он ушел вместе с палачом и писцом; в застенке у огня осталась одна Катлина.
В одиннадцать часов они вернулись и увидели, что Катлина словно одеревенела.
– Должно быть, умерла, – сказал писец.
Старшина велел палачу спустить ее с гроба и разуть. Разуть он не смог – пришлось разрезать сапоги. Ноги у Катлины были красные и все в крови.
Старшина молча смотрел на нее – он вспоминал в это время свой завтрак.
Вскоре Катлина, однако, очнулась, но тут же упала и, несмотря на отчаянные усилия, так и не смогла подняться.
– Ты меня прежде сватал, – сказала она старшине, – ну а теперь не получишь. Четырежды три – число священное, тринадцать – это суженый.
Старшина хотел что-то сказать, но она продолжала:
– Нишкни! У него слух тоньше, чем у архангела, который считает на небе стук сердца у праведников. Почему ты пришел так поздно? Четырежды три – число священное, оно убивает всех, кто меня хотел.
– Она прелюбодействует с дьяволом, – сказал старшина.
– Она сошла с ума под пыткой, – сказал писец.
Катлину увели в тюрьму. Через три дня суд старшин приговорил ее к наказанию огнем.
Палач и его подручные привели ее на Большой рынок и возвели на помост. Профос, глашатай и судьи были уже на своих местах.
Трижды протрубила труба глашатая, после чего он повернулся лицом к народу и сказал:
– Суд города Дамме сжалился над женщиной Катлиной и не стал судить ее по всей строгости закона, однако в удостоверение того, что она ведьма, волосы ее будут сожжены; кроме того, она уплатит двадцать золотых каролю штрафа и немедленно покинет пределы Дамме сроком на три года; буде же она решение суда нарушит, ее приговорят к отсечению руки.
Народ рукоплескал этому жестокому снисхождению.
Палач привязал Катлину к столбу и, положив пучок пакли на ее бритую голову, поджег. Пакля горела долго, а Катлина плакала и кричала.
Наконец ее развязали и вывезли за пределы Дамме в тележке, ибо ноги ее были обожжены.
39
Отцы города Хертогенбос, что в Брабанте, предложили Уленшпигелю пойти к ним в шуты, но он от этой чести отказался.
– Странствующему страннику надлежит шутовать не где-нибудь на одном месте, а по трактирам и по дорогам, – сказал он.
Между тем Филипп, который был также королем Английским, вздумал посетить будущее свое наследие – Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шел двадцать девятый год. В сероватых его глазах таились безысходная тоска, злобное коварство и свирепая решимость. Неживое было у него лицо, словно деревянная была у него голова, покрытая рыжими волосами, деревянными казались его тощее тело и тонкие ноги. Медлительна была его речь и невнятна, словно рот у него был набит шерстью.
В промежутках между турнирами, потешными боями и празднествами он обозревал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Всюду он клялся не посягать на их вольности. Но когда он в Брюсселе клялся на Евангелии соблюдать Золотую буллу[65] Брабанта, рука его судорожно сжалась, и он принужден был убрать ее со Священной книги.
Ко дню его прибытия в Антверпен там было сооружено двадцать три триумфальные арки. На эти арки, на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которых одели в алый бархат, на пышные ливреи для четырехсот шестнадцати лакеев, а также на блестящее шелковое одеяние для четырех тысяч горожан Антверпен израсходовал двести восемьдесят семь тысяч флоринов. Риторы почти всех нидерландских городов блистали здесь своим красноречием.
Здесь можно было видеть со свитой шутов и шутих Принца любви, из Турне, верхом на свинье по имени Астарта; Короля дураков, из Лилля, шествовавшего за своей лошадью, держа ее за хвост; Принца утех, из Валансьенна, который ради собственного удовольствия считал, сколько раз пукнет его осел; Аббата веселий, из Арраса, который потягивал брюссельское вино из бутылки, имевшей вид служебника, и это было для него развеселое чтение; Аббата неги, из Ата, который не очень-то нежил свое тело, ибо на нем была лишь рваная простыня да стоптанные сапоги, но зато нежил свою утробу, до отказа набивая ее колбасой; Предводителя шалых – юношу, который ехал верхом на пугливой козе и которого толпа угощала тумаками, и, наконец, Аббата серебряного блюда, из Кенуа, который делал вид, что хочет усесться на блюде, привязанном к спине его лошади, и все приговаривал: «Нет такого крупного скота, который бы не изжарился на огне».
Но, несмотря на все эти невинные дурачества, король был печален и угрюм.
В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, военачальники и священнослужители собрались на совещание, дабы придумать такую забаву, которая развеселила бы короля Филиппа.
– Вы не слыхали о Пьеркине Якобсене, шуте города Хертогенбоса, который славится как изрядный затейник? – спросил маркграф.
– Слыхали, – подтвердили все.
– Ну так пошлем за ним, – сказал маркграф, – пусть-ка он выкинет какое-нибудь колено, а то ведь у нашего шута ноги точно свинцовые.
– Пошлем, – согласились все.
Когда гонец из Антверпена прибыл в Хертогенбос, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул от смеха, но что здесь находится шут иноземный по имени Уленшпигель. Гонец сыскал его в таверне – тот в это время отщипывал разные лакомые кусочки и пощипывал девиц.
Уленшпигель был весьма польщен тем, что посланец антверпенской общины прискакал за ним на славном вернамбахтском коне, а другого такого же держал в поводу.
Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, знает ли он какой-нибудь новый фокус, который мог бы рассмешить короля Филиппа.
– У меня их целые залежи под волосами, – отвечал Уленшпигель.
И они помчались. Кони, закусив удила, уносили в Антверпен Уленшпигеля и гонца.
Уленшпигель предстал перед маркграфом, обоими бургомистрами и старшинами.
– Чем ты будешь нас забавлять? – спросил маркграф.
– Буду летать, – отвечал Уленшпигель.
– Как же это ты сделаешь? – спросил маркграф.
– А вы знаете, что стоит дешевле лопнувшего мыльного пузыря? – вопросом на вопрос отвечал Уленшпигель.
– Нет, не знаю, – признался маркграф.
– Разглашенная тайна, – сказал Уленшпигель.
Между тем герольды, разъезжая на славных конях в алой бархатной сбруе по всем большим улицам, по площадям и перекресткам, трубили в трубы и били в барабаны. Они оповещали signork’oв и signorkinn[66], что Уленшпигель, шут из Дамме, будет летать по воздуху над набережной и что при сем присутствовать будет сам король Филипп, вместе со своей благородной, знатной и достоименитой свитой восседая на возвышении.
Возвышение стояло напротив дома в итальянском вкусе. Слуховое окошко этого дома выходило прямо на водосточный желоб, тянувшийся во всю длину крыши.
В день представления Уленшпигель проехался по городу на осле. Рядом с ним бежал на своих на двоих лакей. На Уленшпигеле был алого шелка наряд, которым его снабдила община. На голове у него был красный колпак с ослиными ушами, на которых висели бубенчики. На шее сверкало ожерелье из медных блях с гербами Антверпена. На рукавах, у локтей, позванивали бубенчики. На вызолоченных носках туфель также висели бубенчики.
Осел его был покрыт алого шелка попоной, по бокам которой был вышит золотом герб Антверпена.
Лакей одной рукой вертел ослиную голову, а другой – прут, на конце которого звякал колокольчик, снятый с коровьего ошейника.
Оставив лакея и осла на улице, Уленшпигель взобрался по водосточной трубе на крышу. Там он зазвенел бубенцами и широко расставил руки, словно собираясь лететь. Затем наклонился к королю Филиппу и сказал:
– Я думал, я единственный дурак во всем Антверпене, а теперь вижу, что их тут полным-полно. Скажи вы мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А к вам приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы ему верите. Да как же я могу летать, раз у меня крыльев нет?
Иные смеялись, иные бранились, но все говорили одно:
– А ведь дурак правду сказал!
Но король Филипп словно окаменел.
– Стоило для этой надутой рожи закатывать такой роскошный праздник! – перешептывались старшины.
Они силком забрали у Уленшпигеля алый шелковый наряд, заплатили ему три флорина, и он удалился.
– Что такое три флорина в кармане у молодого парня, как не снежинка в огне, как не бутылка, стоящая перед вами, беспробудные пьяницы? Три флорина! Листья опадают с деревьев, потом опять вырастают, а вот если флорины вытекут из кармана, то уж пиши пропало. Бабочки пропадают в конце лета, и флорины тоже исчезают, хотя в них два эстерлина и девять асов весу.
Так рассуждал сам с собой Уленшпигель, внимательно разглядывая три флорина.
– На лицевой стороне – император Карл в панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой жалкенький земной шарик, – ишь какую важность на себя напустил! Божией милостью император Римский, король Испанский, и прочая, и прочая, и прочая! И в самом деле, он милостив к нашим краям, этот броненосный император. А на оборотной стороне – щит, на котором выбиты гербы его герцогств, графств и других владений и вытиснены прекрасные слова: Da mihi virtutem contra hastes tuos. (Пошли мне твердость духа в борьбе с врагами твоими.) И он правда был тверд в борьбе с реформатами[67] – отобрал у них все имущество и наложил на него лапу. Эх, будь я императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, и все бы разбогатели, и никто бы ничего не делал.
Сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, а все же они под стук кружек и звон бутылок угодили в Страну мотовства.
40
Когда Уленшпигель в своем алом шелковом наряде появился на крыше, он не заметил Неле, с улыбкой глядевшую на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и, узнав, что какой-то шут собирается летать в присутствии короля Филиппа, решила, что это, уж верно, не кто иной, как ее дружок Уленшпигель.
Теперь он задумчиво брел по дороге и не слышал ее торопливых шагов у себя за спиной, но вдруг почувствовал, как на глаза ему легли две руки. Он сразу узнал Неле.
– Это ты? – спросил он.
– Да, – отвечала она, – я бегу за тобой от самого города. Пойдем ко мне.
– А где Катлина? – спросил он.
– Ты ведь не знаешь: на нее наговорили, будто она ведьма, пытали, потом изгнали на три года из Дамме, обожгли ей ноги, жгли паклю на голове, – отвечала Неле. – Я тебе для того про это рассказываю, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее, – она помешалась от нечеловеческих мучений. Она иногда часами смотрит на свои ноги и все твердит: «Ганс, добрый мой бес, погляди, что сделали с твоею милой». Ее бедные ноги – точно две язвы. Потом как заплачет: «У всех, говорит, есть мужья или возлюбленные, одна я живу вдовой!» А я ей тогда стараюсь внушить, что если она еще кому-нибудь скажет про своего Ганса, то он ее возненавидит. И она слушается меня, как ребенок, но если, не дай Бог, увидит корову или быка – она ведь из-за животных пострадала, – пустится бежать со всех ног, и тогда уже ничто ее не остановит – ни забор, ни ручей, ни канава, будет бежать до тех пор, пока не свалится в изнеможении где-нибудь на распутье или возле какого-нибудь дома, и тут я ее поднимаю и перевязываю ей израненные ноги. По-моему, когда у нее на голове жгли паклю, то и мозги ей сожгли.
У обоих при мысли о Катлине больно сжалось сердце.
Приблизившись, они увидели, что Катлина сидит около дома на лавочке и греется на солнце.
– Ты меня узнаешь? – спросил Уленшпигель.
– Четырежды три – число священное, а тринадцать – чертова дюжина, – отвечала Катлина. – Кто ты, дитя жестокого мира?
– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин, – отвечал тот.
Катлина подняла голову и, узнав Уленшпигеля, поманила его.
– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны как лед, скажи ему, Уленшпигель, что я его жду, – прошептала она ему на ухо и, показав свою обожженную голову, продолжала: – Мне больно. Они отняли у меня разум, но когда Ганс придет, он вложит мне его в голову, а то она сейчас совсем пустая. Слышишь? Звенит, как колокол, – это моя душа стучится, просится наружу, а то ведь там, внутри, все в огне. Если Ганс придет и не захочет вложить мне в голову разум, я попрошу его проделать в ней ножом дыру, а то душа моя все стучится, все рвется на волю и причиняет мне дикую боль – я не вынесу, я умру от этой боли. Я уже не сплю, все жду его – пусть он вложит мне в голову разум, пусть вложит!
И тут она прислонилась к стене дома и застонала.
Крестьяне, заслышав колокольный звон, шли с поля домой обедать и, проходя мимо Катлины, говорили:
– Вон дурочка.
И крестились.
А Неле и Уленшпигель плакали. А Уленшпигелю надо было продолжать страннический свой путь.


