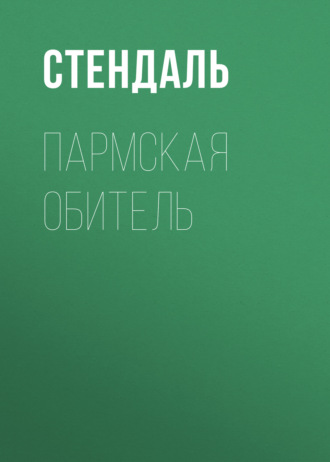
Стендаль
Пармская обитель
Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицио: он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподанным ему иезуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая набожность мальчика испугала ее: «Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына». Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицио от этого лишь возросла.
Жизнь в замке, где сновало тридцать – сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами; все они были ярыми приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, состоявшими при особе маркиза или старшего его сына. Главной темой насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы по примеру господ.
II
…Когда нам Веспер тьмой застелет небосклон,
Смотрю я в небеса, грядущим увлечен:
В них пишет бог – путем понятных начертаний —
Уделы и судьбу живущих всех созданий.
Порой на смертного он снизойдет взглянуть
И, сжалившись, с небес ему укажет путь.
Светилами небес – своими письменами —
Предскажет радость, скорбь и все, что будет с нами.
Но люди – меж смертей и тяжких дел земных, —
Те знаменья презрев, не прочитают их.
Ронсар[6]
Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, – говорил он, – погубили Италию». Он недоумевал, как согласовать этот священный ужас перед знанием с необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им у иезуитов. Самым безопасным он счел поручить аббату Бланесу, священнику гриантской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио латыни. Но для этого надо было, чтоб старик сам ее знал; он же относился к ней с презрением, и познания его в латинском языке ограничивались тем, что он вытвердил наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разъяснить их смысл своей пастве. Тем не менее аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе: он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джовиты, покровителя Брешии, исполнится вовсе не через тринадцать недель и даже не через тринадцать месяцев. Беседуя об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число тринадцать следует толковать в смысле, который весьма удивил бы многих, если бы только можно было все говорить без утайки (1813)!
Дело в том, что аббат Бланес, человек честный, поистине добродетельный и, по существу, неглупый, проводил все ночи на колокольне: он помешался на астрологии. Весь день он занимался вычислениями, устанавливая различные сочетания и взаимоположение звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением на небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом – подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империй и наступления революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади, – говорил он Фабрицио, – с тех пор как меня научили, что по-латински она называется equus?»
Крестьяне боялись аббата Бланеса, считая его великим колдуном; он не возражал против этого: страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата Бланеса, завидуя его влиянию на прихожан, ненавидели его; маркиз дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека столь низкого положения. Фабрицио боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа. Затем он поднимался на колокольню – это была большая честь, которой аббат Бланес никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, – говорил он Фабрицио, – то, пожалуй, будешь настоящим человеком».
Раза два-три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех рискованных экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Каденабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят закидные удочки далеко от берега. К верхнему концу лесы у них привязана дощечка, обитая снизу пробкой, а на дощечке укреплена гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба, клюнув, дергает лесу.
Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные удочки, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодке за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности, – это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух «Ave Maria»[7]. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тотчас же вслед за молитвой, Фабрицио бывал озадачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось плодом его участия в астрологических занятиях аббата Бланеса, хотя он нисколько не верил предсказаниям своего друга. Сообразно прихотям юной фантазии Фабрицио, приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, товарищи мало-помалу привыкли слушаться его прорицаний; и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи и отправлялись по домам, в постель. Итак, аббат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке – астрологии, но, сам того не подозревая, внушил ему беспредельную веру в предзнаменования.
Маркиз понимал, что при первой же неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры, и поэтому ежегодно ко дню святой Анджелы, то есть к именинам графини Пьетранера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такой поездки, дозволяемой в важных политических целях, маркиз давал сыну четыре экю и, по обычаю своему, ничего не давал жене, всегда сопровождавшей Фабрицио. Но накануне поездки отправляли через город Комо повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркизы была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон.
Образ жизни злобствующего маркиза дель Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые решались вести его, основательно обогащались. У маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил и четверти этой суммы: он жил надеждами. Целых тринадцать лет, с 1800 по 1813 год, он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине. При вести о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть не сошел с ума; тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И наконец, после четырнадцати лет ожидания, ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению, полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза дель Донго с чрезвычайной учтивостью, граничившей с почтением; тотчас же ему предложили один из виднейших административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное ему звание кадета. Триумф, которым маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился лишь несколько месяцев, а за ним последовали унизительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было дарований государственного деятеля, а четырнадцать лет деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Между тем в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старинной монархии. Промахи маркиза дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ультрамонархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность помощника главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства. Маркиз был возмущен, счел себя жертвой жестокой несправедливости и даже напечатал «Письмо к другу», несмотря на то что яро ненавидел свободу печати. Наконец, он написал императору, что все его министры – предатели, ибо все они якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительное известие. После падения Наполеона стараниями могущественных в Милане людей на улице был убит граф Прина, бывший министр итальянского короля и человек весьма достойный. Граф Пьетранера, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетку церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в сточную канаву посреди улицы, но священник издевательски отказался открыть решетку, и за это маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение.
Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетранера, не имея даже пятидесяти луидоров годового дохода, осмеливался чувствовать себя довольным да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь, и дерзко проповедовал тот дух нелицеприятной справедливости, который маркиз называл мерзким якобинством. Граф отказался вступить в австрийскую армию; этот отказ получил должную оценку, и через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения генерала Пьетранеры в тюрьму. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и рассказать императору всю правду. Убийцы Прины струсили, и один из них, двоюродный брат г-жи Пьетранера, принес ей в полночь, за час до ее отъезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетранеру, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прины и заключением в тюрьму графа Пьетранеры.
После этой грозы, которую отвратила твердость характера графини Пьетранера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна.
К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также близким другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре Ла Скала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской республики. Граф дал ему пощечину; тут же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, присутствовавшие при нем, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии.
То нелепое мужество, которое называют покорностью судьбе, – мужество глупцов, готовых беспрекословно дать себя повесить, – совсем не было свойственно графине Пьетранера. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование; она пожелала, чтобы Лимеркати – тот богатый молодой человек, который был ее другом, – тоже возымел фантазию отправиться в путешествие, разыскал в Швейцарии убийцу графа Пьетранеры и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной.
Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она удвоила внимание к Лимеркати: ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того чтобы французам был понятен такой план мщения, скажу, что в Ломбардии, стране довольно отдаленной от нашей, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетранера, даже в глубоком вдовьем трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н***, всегда говоривший, что Лимеркати немного тяжеловесен, немного мешковат для такой умной женщины, влюбился в нее до безумия. Тогда она написала Лимеркати.
«Не можете ли Вы хоть раз в жизни поступить как умный человек? Вообразите, что Вы никогда не были со мной знакомы.
Прошу принять уверения в некотором презрении к Вам.
Ваша покорная слуга
Джина Пьетранера».
Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий; любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб, – намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Приехав в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей свою руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н***. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях; каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н*** она погубит себя, что такая связь ее позорит.
На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н*** и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н***, будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она соблаговолила ему сообщить.
– Будьте милостивы, – добавил он, – принимайте меня, оказывая мне по-прежнему все те внешние знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда сумею сохранить подобающее место в свете.
После столь героического признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н***. Но за пятнадцать лет она привыкла к жизни самой роскошной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую, задачу: жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на шестом этаже, уволила всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой поденщицей. Такая жертва была, в сущности, менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам: в Милане над бедностью не смеются, а следовательно, она и не страшит, как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности; ее постоянно бомбардировали письмами и Лимеркати и даже граф Н***, тоже мечтавший теперь жениться на ней; но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как! Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его!
Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго. Переменчивая душа Джины с восторгом приняла мысль о новом образе жизни; уже двадцать лет графиня не бывала в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой, – говорила она себе. – А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем? (Графине пошел тридцать второй год, и она полагала, что ей пора в отставку.) На берегу чудесного озера, где я родилась, я обрету наконец счастливую, мирную жизнь».
Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такою легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы не помнили себя от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости, – говорила, целуя ее, маркиза. – А накануне твоего приезда мне было сто лет!» Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками: виллу Мельци на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рощу Сфондрата, расположенную выше, по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава: один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Леко меж угрюмых скал, – все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире – Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. «На берегах Комо, – думала она, – нет того, что видишь вокруг Женевского озера: обширных полей, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон вздымаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в статью дохода. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегающих к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо и Ариосто. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рощицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая, суровая картина, напоминая о пережитых горестях, усиливает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями, звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: «Жизнь коротка, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им».
То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность шестнадцатилетней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. «Неужели, – думала она, – счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку; Фабрицио, маркиза и сама г-жа Пьетранера собственными руками украсили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь: со времени своей опалы маркиз дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в десять шагов шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал воздвигнуть плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков.
Старший брат Фабрицио, маркезино Асканьо, попытался было принимать участие в прогулках дам, но тетка брызгала водой на его пудреные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки.
Асканьо поклялся отомстить Фабрицио.
Однажды поднялась буря, и лодка едва не перевернулась; хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу: он и без того был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю, – на этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны: из двух горных ущелий, находящихся на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера; она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище: она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта. Выпрыгнув из лодки, она упала в воду, Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня страстно увлеклась простодушным характером старика Бланеса и его астрологией. Деньги, оставшиеся у нее после покупки лодки, ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа; и почти каждый вечер графиня, взяв с собою племянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио в этой компании выпадала роль ученого, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов.
Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день она смеялась по-прежнему; обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетования маркизы, ее невестки.
– Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке? – восклицала маркиза.
До приезда графини у нее недоставало смелости даже подумать об этом.
Так прошли зимние месяцы 1814–1815 года. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан: нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано, которые давали в театре Ла Скала, и маркиз не запрещал жене сопровождать золовку. В Милане бедная вдова генерала Цизальпинской республики, получив пенсию за три месяца, давала богатейшей маркизе дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны; дамы приглашали к обеду старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, помогала им забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома.
7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул один из доверенных людей маркиза: Наполеон только что высадился в бухте Жуан. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно нисколько не поразило; он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов и еще раз заявил, что министры его величества – якобинцы, орудующие заодно с парижскими смутьянами.
8 марта, в 6 часов утра, маркиз, надев камергерский мундир со всеми орденами, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио велел доложить о себе графине Пьетранера.
– Я уезжаю, – сказал он. – Я хочу присоединиться к императору – ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу! Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью в Менаджо мой друг Вази, тот, что торгует барометрами, дал мне свой паспорт; дай мне несколько наполеондоров: у меня их всего два, – но если понадобится, я пойду пешком.
Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги.
– Боже мой! Как тебе пришла в голову такая мысль? – воскликнула она, сжимая руки Фабрицио.
Она встала с постели и вынула из бельевого шкафа тщательно запрятанный там кошелечек, вышитый бисером, – в нем лежало все ее богатство.
– Возьми, – сказала она Фабрицио. – Но, ради бога, береги себя. Что будет с твоей несчастной матерью и со мной, если тебя убьют? А надеяться на успех Наполеона невозможно, бедный дружок мой: эти господа сумеют его погубить. Разве ты не слышал в Милане неделю тому назад рассказ о том, как его двадцать три раза пытались убить? Эти покушения были так хорошо обдуманы, что он уцелел только чудом. А ведь тогда он был всемогущ. Ты же знаешь, что наши враги только о том и думают, как бы избавиться от него. Франция впала в ничтожество после его изгнания.
Графиня говорила об участи, ожидавшей Наполеона, с глубоким волнением.
– Позволяя тебе отправиться к нему, я приношу ему в жертву самое дорогое для меня существо на свете, – сказала она.
Глаза Фабрицио наполнились слезами, он заплакал, обнимая графиню, но воля его ни на минуту не поколебалась. Он с горячностью изложил своему дорогому другу все причины, побудившие его принять такое решение; мы позволим себе смелость признать их весьма забавными.
– Вчера вечером, в шесть часов без семи минут, мы, как ты помнишь, прогуливались по платановой аллее на берегу озера, под Каза Соммарива, и шли по направлению к югу. Как раз в это время я заметил вдалеке ту лодку, что плыла со стороны Комо и везла нам великую весть. Я смотрел на лодку, совсем не думая об императоре, только завидовал судьбе тех людей, которые могут путешествовать, и вдруг я почувствовал глубокое волнение. Лодка причалила, агент отца что-то тихо сказал ему, отец вдруг побледнел, отвел нас в сторону и сообщил нам ужасную новость. Я отвернулся и стал смотреть на озеро только для того, чтобы скрыть слезы радости, хлынувшие из моих глаз. И вдруг на огромной высоте – и притом с правой стороны – я увидел орла, птицу Наполеона; орел величественно летел по направлению к Швейцарии, а значит, к Парижу. И я сейчас же сказал себе: «Я тоже пересеку Швейцарию с быстротою орла, я присоединюсь к этому великому человеку и принесу ему то немногое, что могу дать ему, – поддержку моей слабой руки. Он хотел дать нам родину, он любил моего дядю!» Когда орел еще не совсем скрылся из виду, у меня вдруг почему-то высохли слезы, и вот тебе доказательство, что эта мысль была ниспослана мне свыше: лишь только я безотчетно принял решение, в тот же миг я увидел, какими способами можно осуществить его. И мгновенно вся печаль, которая, ты знаешь это, отравляет мне жизнь, особенно в воскресные дни, исчезла, словно ее развеяло дыхание божества. Перед моими глазами встал великий образ: Италия поднимается из того болота, в которое погрузили ее немцы; она простирает свои израненные руки, еще окованные цепями, к своему королю и освободителю[8]. И я сказал себе мысленно: «Я, доселе безвестный сын нашей многострадальной матери, пойду, чтобы победить или умереть вместе с человеком, отмеченным судьбою и пожелавшим смыть с нас презрение, с которым смотрят на нас даже самые подлые, самые порабощенные обитатели Европы».
Помнишь, – тихо добавил он, подойдя к графине и глядя на нее сверкающим взглядом, – помнишь тот каштан, который в год моего рождения матушка своими руками посадила ранней весной в нашем лесу на берегу ручья, в двух лье от Грианты? Так вот, прежде чем приступить к каким-либо действиям, я пошел посмотреть на свое дерево. «Весна, – подумал я, – началась еще совсем недавно, и если на нем уже есть листья, – это хороший знак для меня». Я тоже должен стряхнуть с себя оцепенение, в котором томлюсь здесь, в этом унылом и холодном замке. Не кажется ли тебе, что эти старые, почерневшие стены, некогда служившие орудием деспотизма и оставшиеся символом его, – очень верный образ угрюмой зимы? Для меня они то же, что зима для моего дерева.
Вчера вечером, в половине восьмого, я пришел к каштану, и – поверишь ли, Джина? – на нем были листья, красивые зеленые листочки, уже довольно большие! Я целовал листочки тихонько, стараясь не повредить им. Потом осторожно вскопал землю вокруг моего милого дерева. И тотчас же, снова преисполнившись восторга, я пошел горной тропинкой в Менаджо: ведь мне нужен паспорт, чтобы пробраться через границу в Швейцарию. Время летело, был уже час ночи, когда я подошел к дверям Вази. Я думал, что мне придется долго стучаться, чтобы его разбудить. Но он не спал, он беседовал с тремя друзьями. При первых же моих словах он бросился обнимать меня и вскричал: «Ты хочешь присоединиться к Наполеону!» И друзья его тоже горячо обнимали меня. Один из них говорил: «Ах, зачем я женат!»
Госпожа Пьетранера задумалась; она считала своим долгом выставить какие-нибудь возражения. Будь у Фабрицио хоть самый малый опыт, он прекрасно понял бы, что графиня сама не верит благоразумным доводам, которые спешит привести. Но взамен опыта он обладал решительным характером и даже не удостоил выслушать эти доводы. Вскоре графине пришлось ограничиться просьбами, чтобы он сообщил о своем намерении матери.
– Она расскажет сестрам, и эти женщины, сами того не ведая, выдадут меня! – воскликнул Фабрицио с каким-то высокомерным презрением.







