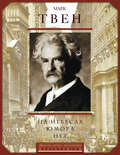Марк Твен
Три тысячи лет среди микробов
XVIII
Я был восхищен лекцией герцога. Феномены, упомянутые в ней, были для меня новы и удивительны. И в то же самое время давно знакомы и неудивительны. На Земле, когда я изучал микробиологию под руководством профессора Г. У. Конна[38], эти факты считались общеизвестными применительно к микробам, заражающим человеческий организм, но мне было в диковинку то, что существует их дубликат – микробы, заражающие человеческих микробов. Все знают, что род человеческий был изначально спасен от гибели микробом, микроб спасает его с тех пор и поныне, микроб – защитник, охранитель жизни, надежда и опора многих мощных отраслей промышленности на Земле, в нем более всего заинтересованы корпорации, эксплуатирующие его труд; его услуги эксперта неоценимы для этих корпораций Общеизвестно, что именно микроб спасает Землю, иначе, погребенная под толщей мусора, она исчезла бы из виду и стала непригодной к использованию, – одним словом, все знают, что микроб – самый полезный гражданин планеты Земля, что человек не может обойтись без него, как не может жить без солнца и воздуха. Известно и то, что род человеческий не замечал его благодеяний и помнил лишь о том, что болезнетворные микробы повышают смертность на десять процентов. Вместо того чтобы покончить с этой несправедливостью, человек объявил всех микробов болезнетворными и злобно поносил всех микробов, включая своих благодетелей!
Да, все это было не ново для меня, но оказалось, что наши старые добрые знакомые микробы сами имеют множество микробов, которые кормят, обогащают, преданно берегут от смерти и их самих, и их планету, бродягу Блитцовского, – вот это было ново и восхитительно!
Я жаждал увидеть суинков своими глазами. Я весь горел от возбуждения! У меня были линзы, дававшие увеличение в два миллиона раз, но поле зрения микроскопа не превышало человеческий ноготь и не давало хорошего обзора. Я страстно желал получить поле обзора в тридцать футов, что соответствовало бы нескольким милям природного ландшафта и показывало бы то, что стоит посмотреть. Мы с приятелями не раз пытались усовершенствовать свой микроскоп, но безуспешно
Я сказал о своем желании герцогу, и мои слова вызвали у него улыбку Оказывается, все решалось очень просто: подобное оборудование было у него дома Я вознамерился купить у герцога секрет усовершенствования, но он ответил, что такой пустяк не стоит разговоров,
– Вам не приходило в голову направить рентгеновский луч под углом 8,4° на параболический отражатель? – спросил герцог.
Клянусь честью, я бы никогда не додумался до столь простого решения! Я был ошеломлен.
Мы тут же наладили микроскоп, я поместил на предметное стекло капельку своей крови и тотчас размазал ее. Результат превзошел все ожидания. Передо мной простиралась на несколько миль зеленая холмистая равнина, пересеченная реками и дорогами. Где-то вдали виднелись расплывчатые очертания живописных гор. В долине расположился белый палаточный городок, возле него застыли в ожидании артиллерийские батареи, дивизионы кавалерии и пехоты. Нам повезло: очевидно, они построились для церемониального марша или чего-то в этом роде. На переднем плане, где развевалось королевское знамя, стоял самый большой и красивый шатер с эффектными гвардейцами-часовыми, возле него размещались другие красивые шатры. Воины, особенно офицеры, производили очень приятное впечатление – подтянутые, элегантные, в нарядных мундирах. Вся армия была как на ладони: день выдался ясный, и при таком сильном увеличении каждый боец казался ростом с ноготок (Мое собственное выражение, и довольно удачное Я сказал:
– Ваше высочество, посмотрите – росток с ноготок, а что ни боец – удалец.
– Что вы имеете в виду, милорд?
– Вон, гляньте на статного генерала – того, что стоит, опершись рукой о дуло пушки Опустите мизинец рядом с ним, и его плюмаж будет как раз на уровне верхней части вашего ногтя.
– Росток с ноготок – это хорошо и точно подмечено, – сказал герцог и потом сам несколько раз употребил это выражение
Через минуту к генералу подъехал верховой и отсалютовал
– Так, так, если считать лошадь, у этого росток – ноготок и три четверти, – заметил герцог. – М. Т. ).
Куда ни посмотришь, всюду с веселым видом разгуливали щеголи-офицеры, но солдаты были невеселы. В лагере собралось много женщин – жен, невест и дочерей суин-ков, и почти все они плакали. Провожали, конечно, на войну, а не на летние учения, и бедных трудяг суинков отрывали от праведного труда для того, чтоб послать на край света – нести цивилизацию и другие бедствия несчастным Народам, Ходящим во Тьме, иначе почему женщины плакали?
Конница была на диво хороша; породистые вороные лошади с лоснящимися крупами били копытами, и только луч света засиял на трубе, подающей сигнал, который мы не могли услышать, как весь дивизион пустил коней в галоп. Это великолепное, волнующее зрелище продолжалось до тех пор, пока пыль, поднявшаяся на дюйм, – а по мнению герцога еще выше – не окутала конницу крутящимся зыбким облаком, сквозь которое сверкали обнаженные сабли.
Вскоре произошло главное событие дня – в лагерь прибыла целая армия священников с хоругвями. Последние сомнения отпали: начиналась война, и длинные шеренги солдат отправлялись на фронт. Их маленький монарх выступил вперед – более очаровательную миниатюрную пародию на человека трудно было представить. Он воздел руки к небу, благословляя марширующие войска. Солдаты были на седьмом небе от счастья, и, проходя мимо хоругвей, почтительно выражали верноподданнические чувства.
Построившись сомкнутыми рядами, они шествовали маршем под реющими знаменами – удивительно красивое зрелище!
Войска отправлялись куда-то сражаться за Родину, которую олицетворял манекен, благословлявший их на подвиг, – отправлялись защищать его и его знатных собратьев из роскошных шатров и между делом захватить и цивилизовать для них какую-нибудь богатую страну, маленькую и беззащитную. По всему было видно, что крошечный монарх и его придворные не намеревались становиться в строй. Герцог сказал, что это, несомненно, Генрих и Семейство суинков; те тоже никогда не воевали, а, сидя дома, в полной безопасности, поджидали трофеи.
Ну а что оставалось делать нам? Разве мы не должны были исполнить свой моральный долг? Разве мы могли допустить, чтоб началась война? Наш долг – остановить ее во имя справедливости! Наш долг – дать отпор эгоистичному и бессердечному Семейству!
Герцог был потрясен и тронут этой идеей. Он вполне разделял мои чувства и настроился бороться за справедливость, а потому предложил капнуть на Семейство кипятком и уничтожить его, что мы и сделали.
Кипяток заодно уничтожил и армию, а это не входило в наши планы. Мы горько сожалели о содеянном, но потом герцог заявил, что погибшие суинки для нас – ничто и заслуживали уничтожения хотя бы потому, что рабски служили жестокосердному Семейству. Герцог вер-ноподданнически делал то же самое, как, впрочем, и я, но нам и в голову не приходило такое сравнение. И это отнюдь не то же самое: ведь мы – суфласки, а они всего-навсего суинки.
XIX
Герцог вскоре ушел, но последняя неотступная мысль не давала мне покоя: это отнюдь не то же самое, ведь мы суфласки, а они всего-навсего суинки. Так вот где собака зарыта! Неважно, кто мы и что собой представляем, нам всегда есть кого презирать, с кем порой считаться, с кем никогда не считаться, к кому проявлять полное безразличие. В бытность свою человеком я самодовольно полагал, что принадлежу к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, к Всеобъемлющим Существам, к Божьей Отраде. Я презирал микробов, они не стоили моего мимолетного взгляда, самой пустячной мысли; жизнь микроба для меня ничего не значила, я мог отнять ее ради собственной прихоти, она была все равно что цифра на грифельной доске – захотел и стер Теперь же, став микробом, я с негодованием вспомнил об оскорбительном высокомерии, о беззастенчивом равнодушии человека и копировал его тупое пренебрежение к другим существам даже в мелочах. И снова я взирал сверху вниз – теперь уже на суинков, и снова я считал, что жизнь суинка ничего не стоит и ее можно стереть, как ненужную цифру с грифельной доски. И снова я относил себя к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, и снова я нашел, кого презирать, кем пренебрегать. Я принадлежал к суфласкам, я был Всеобъемлющим Существом, а где-то бесконечно далеко внизу копошился ничтожный суинк, я мог отнять его жизнь ради собственной прихоти. Почему бы и нет? Что в этом дурного? Кто меня осудит? И тут до меня дошла неумолимая логика ситуации Неумолимая логика ситуации заключалась в следующем: существует человек и микроб-паразит, которым человек пренебрегает; существует суфласк и суинк-паразит, которым суфласк пренебрегает; значит, и суинк наверняка имеет какого-нибудь паразита, которого презирает, которым пренебрегает, которого при случае уничтожает с легким сердцем; из этого следует, что у такого паразита наверняка есть свой паразит, и так далее, и так далее, пока не доберешься до самого последнего, ничтожно малого создания, если таковое существует, что весьма сомнительно.
Я снова обрел покой и чистую совесть. Мы сварили живьем бедняжек суинков, ну и что? Пусть терпят, пусть вымещают зло на своих паразитах, а те – на своих, и так до тех пор, пока в отместку не обварят кипятком самое последнее, ничтожно малое создание, и тогда все будут удовлетворены и даже рады этому происшествию.
В конце концов, такова жизнь. Она такова повсюду, при любых условиях' король презирает придворного, придворный презирает чиновника, чиновник рангом повыше презирает того, кто ниже рангом, а тот – другого, кто еще ниже, а другой – третьего, кто еще ниже, и так все пятьдесят каст, составляющих общину, все пятьдесят аристократий, составляющих общину, ибо – могу с уверенностью сказать – каждая каста внутри общины считает себя аристократией и свысока взирает на тех, чье положение ниже, норовит выхватить у них «жирный кусок». И так – сверху вниз, пока не доберешься до самого дна. А на дне вор презирает хозяина, сдающего жилье внаем, а тот – льстивого проныру агента по продаже домов, стоящего так низко, что дальше уже некуда.
XX
Я просмотрел свою работу о местном денежном обращении и решил, что факты в ней изложены точно, понятно и занимательно. Это мой очень давний труд. В первые дни пребывания на Блитцовском я взял за правило записывать все новое, что узнал, откладывать написанное впрок, а потом время от времени возвращаться к сделанному и оценивать заново. Я всегда находил какие-нибудь огрехи и постепенно выправлял ошибки. Работа о денежном обращении прошла ту же суровую проверку временем. Я счел ее вполне удовлетворительной и отдал на хранение Екатерине – до следующего случая.
Это было три тысячи лет тому назад. О, Екатерина, бедное дитя, где ты? В каких краях обретаешься, прелестное создание, причудливый эльф? Где ты, юная краса, переменчивый нрав, порывистое отзывчивое сердце? Где ты, неуловимая, как шарик ртути, непредсказуемая, как проливной дождь в яркий солнечный день? Ты была для меня аллегорией, ты была самой жизнью! Веселой, беззаботной, сверкающей, боготворимой мною, всепобеждающей жизнью! И вот уже тридцать столетий ты прах и пепел.
Пожелтевшая старая бумага вызвала в памяти образ Екатерины. Ее рука последней трогала эти листы. Екатерина была славное дитя, именно дитя. Знай я, где ее пальцы коснулись бумаги, я поцеловал бы это место.
В незапамятные времена два юных искателя приключений облюбовали в чужих краях уединенное местечко и основали там деревеньку, нынешний Рим. Деревенька со временем разрослась и несколько веков была столицей королевства; слава о ней шла по всему миру, она стала сердцем республики, родиной выдающихся деятелей, даже императоров, среди которых попадались и вполне сносные владыки. Рим стоял на земле уже семь или восемь веков, когда в одной из его провинций родился Иисус Христос; наступил век Веры, а за ним – Темные, или Средние, века, растянувшиеся на несколько столетий. Рим взирал на мир с высоты своего величия, и когда над ним пронеслось восемнадцать столетий, Вильгельм Завоеватель совершил деловую поездку на Британские острова. Потом появились крестоносцы и два века поднимали пыль столбом, но романтическое шоу куда-то сгинуло, шум стих, стяги исчезли, будто все это привиделось людям во сне. Потом мир посетили – один за другим – Данте, Боккаччо и Петрарка; разразилась Столетняя война, явилась миру Жанна д'Арк, немного погодя изобрели печатный станок – событие огромной важности; потом вспыхнула война Алой и Белой розы – сорок лет крови и слез. Вскоре Колумб открыл Новый Свет. В том же самом году Рим узаконил истребление ведьм: за свои две тысячи двести лет он порядком устал от ведьм В течение последующих двух столетий в Европе не продали ни одного фонаря, и даже искусство их изготовления было утрачено: в христианском мире дорогу путешественникам освещали костры, на которых живьем сжигали женщин, привязанных к столбам на расстоянии тридцати двух ярдов друг от друга. Христианский мир постепенно очищался от ведьм и довел бы это дело до конца, если б кто-то случайно не дознался, что ведьм не существует, и не рассказал об этом всем вокруг. Скучно протекли еще два столетия; Рим, некогда маленькая деревушка в глуши, насчитывал уже две тысячи шестьсот лет и назывался Вечным городом. Бывшие дворцы времен Христа обратились в груды камней, поросшие травой, и даже унылый Новый Свет, открытый Колумбом, стал не такой уж новый: народу там прибавилось, и, наверное, вернись Колумб к этим берегам, он бы поразился, увидев города, железные дороги и великое множество людей.
Перебирая в памяти события минувших лет, я думал: какой седой стариной представляется то время, когда два юных путешественника основали деревушку и назвали ее Римом. И все же, возразил я себе, еще больше веков кануло в вечность с тех пор, как Екатерина унесла старую рукопись; о, если б я знал, где ее рука коснулась бумаги!
Денежное обращение
В одном важном деле цивилизация Блитцовского несомненно превзошла земную. Некогда Bund[39] добился введения на Блитцовском единой валютной системы. Здешние жители, отправляясь в путешествие, не запасаются ни валютой на мелкие расходы, ни купюрами в чужой непонятной валюте. Номинальная цена денег во всех странах одинакова.
Когда эту идею предложили впервые, она вызвала опасения, ибо предлагала упрощение самой изощренной головоломки. Каждая страна обзавелась собственной валютой, собственной грошовой принципиальностью, и это была плачевная картина, неизбежно возникающая там, где царствует хаос. Яркий пример тому – случай с моим прадедушкой, который некогда отправился в путешествие в Германию.
В те времена Германией заправляли триста шестьдесят четыре принца-самодержца, что ни ферма – свой принц. Каждый принц имел собственный монетный двор, каждый ежегодно чеканил денег на сумму, равную нынефним пятистам – шестистам долларам, с изображением собственной персоны на каждой монете. В обращении находилось три тысячи двести тридцать разновидностей монет, и каждая имела свой номинал и название.
Никто в Германии не знал всех названий, никто не знал, как пишется хотя бы половина из них; за пределами каждого государства его монета падала в цене, и чем дальше, тем сильнее.
Моим предком был некто Эссфолт. Он получил генеральский чин еще в молодости, когда целых три недели служил при губернаторе. Эссфолт приехал в Германию лечиться, врачи прописали ему ежедневные прогулки – пять миль туда и обратно Наведя справки, мой предок выяснил, что самый дешевый маршрут по направлению север – северо-восток, потому что в этом случае путь его пролегал всего лишь через пять границ суверенных государств. Положи Эссфолт по неосторожности руль на румб вправо, ему предстояло пересечь семь границ; положить руль на румб влево было и того опасней: тогда на его пути было девять границ. На румб вправо и на румб влево протянулись две самые хорошие дороги, но Эссфолт не мог позволить себе такой роскоши и брел по грязной немощеной дороге во вред собственному здоровью, которое его послали укреплять. Любой другой на его месте сразу смекнул бы, что нет смысла экономить на дороге, но вбить в голову Эссфолту такую простую мысль было невозможно.
В то лето мой предок жил в главной деревне Великого Герцогства Доннерклапперфельд. С утра сразу после завтрака он отправлялся на прогулку, набив карманы своего костюма, который менял через день, местной монетой на сумму двадцать долларов. Костюм тоже обходился ему в двадцать долларов, хотя красная цена ему была восемь с половиной. Цена возмутительная, ибо Эссфолту приходилось платить за шитье самому герцогу, запретившему своей высочайшей властью всем портным открывать мастерские в его владениях.
У границы герцогства – в трехстах ярдах от постоялого двора, Эссфолт платил экспортный налог за костюм – пять процентов его стоимости. Эссфолта пропускали через заставу, а потом иностранный таможенник по другую сторону заставы останавливал моего предка и взимал с него пятипроцентный импортный налог за тот же костюм и еще пять процентов за разницу в курсе при переводе одной валюты в другую.
У каждой заставы игра продолжалась в том же духе: Эссфолт платил налог за экспорт, импорт и разницу в курсе при переводе одной валюты в другую – по два доллара у каждой из пяти застав На обратном пути все повторялось сначала, и каждая прогулка обходилась ему в двадцать долларов. Эссфолт возвращался без медяка в кармане, хоть ничего не покупал по дороге. Разве что привилегии и покровительственный тариф. Но он вполне мог обойтись без привилегий и никогда не пользовался никаким покровительством – правительственным во всяком случае.
Что ни день, с него взимали десять долларов за разницу в курсе. С этим генерал смирился, но считал, что десять долларов налога на экспорт и импорт ежедневно бросает на ветер. Через день налог съедал его костюм, и ему приходилось покупать новый.
Эссфолт пробыл в Германии девяносто дней. За это время он купил сорок пять костюмов. В отличие от генерала я сторонник протекционизма и считаю эту меру правильной, но, если отправляешься в путь с настоящим полноценным долларом и он тает у тебя на глазах до последнего пятнышка жира на нем из-за надувательства с переводом валюты, пора крикнуть: «Стоп!» – и учредить международную валюту, чтобы доллар стоил сто центов повсюду – от Северного полюса до Южного, и от Гринвича до 180 меридиана. Так заведено на Блитцовском, и, по-моему, лучшей системы не придумаешь.
Единица денежного обращения на Блитцовском – бэш. Его стоимость – одна десятая цента по американской системе. В обращении находятся еще шесть номиналов. Привожу их названия с приблизительной меновой стоимостью в американской системе.
Бэшэр– 10 бэш. Меновая стоимость– 1 цент.
Гэш – 50 бэш. Меновая стоимость – 5 центов.
Гэшер– 100 бэш. Меновая стоимость– 10 центов.
Мэш – 250 бэш. Меновая стоимость – 25 центов.
Мэшер – 500 бэш. Меновая стоимость – 0,5 доллара.
Хэш – 1000 бэш. Меновая стоимость– 1 доллар.
Теперь о банкнотах. Самая первая соответствует одному доллару, и далее они идут в следующем порядке: 1 хэш, 2 хэш, 5 хэш, 10 хэш, 20 хэш, 50 хэш.
Потом названия меняются, и мы имеем:
клэшер = 100 000 хэш. Меновая стоимость– 100 долларов;
флэшер = 1 000 000 хэш. Меновая стоимость– 1000 долларов;
слэшер = 1 000 000 000 хэш. Меновая стоимость – 100 000 долларов.
Покупательная способность бэш в Генриленде примерно такая же, как покупательная способность доллара в Америке.
Сначала возникли большие трудности с выбором названий денежных единиц. И эти трудности создали поэты. В комиссию по выбору названий вошли только бизнесмены. Они потратили уйму времени и труда на это дело, и, когда опубликовали перечень предложенных ими названий, остались довольны все, кроме поэтов. Они атаковали перечень единым фронтом и высмеяли его самым безжалостным образом. По их мнению, такие названия могли навеки выхолостить живое чувство, переживание, поэтический настрой из денежной сферы, ибо ни в одном языке – ни в живом, ни в мертвом – невозможно найти к ним рифму. И поэты подкрепили свои слова доказательствами. Они наводнили планету задорными двустишиями; их первая строчка кончалась одним из названий монет, вторая бодро и весело выходила на финишную прямую, но финишной ленточки не было, и зафиксировать победу было невозможно.
Три тысячи лет среди микробов
Комиссия убедилась в правоте поэтов. Она решила передать им контракт и поступила мудро. После долгих споров и пререканий выбрали названия «бэш», «мэш» и им подобные. Комиссия одобрила эти названия, референдум официально ввел их в употребление отныне и во веки веков. Эти слова великолепно рифмуются, в этом смысле они не имеют себе равных. Стоит только вспомнить земную финансовую терминологию!
Соверен пиастр флорин
гульден цент грош
сантим обол рубль
доллар сикель песо
дублон шиллинг пфенниг
Если объявить конкурс на эпическую поэму о деньгах, – экспромт, дистанция миля, одна попытка, – то поэт-суфласк сможет в одиночку состязаться с поэтами всего христианского мира; он в одиночестве пройдет дистанцию, с ходу рифмуя «гэш», «мэш», «хэш» и прочие «эши». Конкурс выигран, поэма создана! А где же соперники, позвольте вас спросить? Застряли где-то в начале пути, без единого шанса на успех, пытаясь подобрать рифму к упрямым «пфеннигам».
Екатерина прервала мои размышления, напомнив, что завтрак уже на плите, а сразу после завтрака у меня соберется группа на занятия по высшей теологической арифметике. Времени было в обрез. Екатерина занялась наладкой мыслефона, а потом я начал записывать на нем новейшую историю Японии, завершавшую, к моей радости, огромный труд – историю Земли. История Японии начиналась с импрессионистического облачка; я не мог взять в толк, откуда оно появилось, и дал машине обратный ход, чтоб проверить качество записи. Все остальное было ясно, но облачко приводило меня в замешательство. Екатерина сразу догадалась, что облачко – отрывок из «Науки и богатства» – нечленораздельный, разложенный на фонемы, спрессованный в одну расплывчатую мысль. Крепкий орешек для будущих студентов-историков! Пусть точат на нем зубы.
Мне не терпелось поскорей отправиться к месту раскопок. Друзья-ученые теперь в полном сборе, и я узнаю, как они приняли мою «поэму». Я решил: занятия по высшей теологической арифметике проведет мой ассистент, сам же я немедленно отправлюсь на раскопки. Однако пришлось остаться, ассистент меня подвел. Оказывается, он сам был на раскопках и, как зачарованный, слушал удивительный рассказ Луи и Лема. Мой ассистент родился с душой поэта, он был восторженный энтузиаст, и его воображение напоминало микроскоп, о котором я рассказывал. Добросердечный и искренний по природе, он всегда стремился к благородным, высоким идеалам. Он был не чета своему брату, Лему Гулливеру. Даже в имени, которым я его одарил, заключалась похвала, но мой ассистент звался сэром Галаадом по праву[40]. Он не знал, что символизирует его имя, как и Лем Гулливер, но я-то знал и полагал, что хорошо справился с ролью крестного отца.
Сэр Галаад с первого знакомства был моим любимейшим и способнейшим учеником. Он по праву занимал высокое место моего помощника в маленьком колледже – я осмеливаюсь назвать этим громким именем свою скромную школу. Как и я, он очень любил этику и преподавал ее с великой охотой. На всякий случай, я посещал некоторые лекции сэра Галаада, не потому, что не доверял ему, – нет! Просто время от времени у него сильно разыгрывалось воображение, и приходилось возвращать его с неба на землю. Сэр Галаад никогда не грешил против истины, но порой, одержимый какой-нибудь фантастической идеей, пришедшей ему на ум, уверенный в ее правоте, он решительно провозглашал ее истиной. Если б не этот изъян, его лекции по сложнейшим дисциплинам были бы превосходны. Аудитория затаив дыхание внимала его экскурсам по прикладной теологии, теологической арифметике, метафизике и прочим высоким материям. Я же слушал его с еще большим удовольствием, ощущая под рукой тормоз.
Попав наконец на место раскопок, я увидел, что работа стоит на мертвой точке. В центре внимания всех участников раскопок был плод моей «фантазии», о котором им поведали Людовик и Лем, причем Лем называл его ложью, а Людовик – поэмой. Он-то и произвел такую сенсацию. Приятели уже несколько часов кряду обсуждали фантастический вымысел; одни разделяли мнение Лема, другие – Людовика, мне же не верил никто. Тем не менее все жаждали узнать подробности, и это меня вполне устраивало. Я начал с того, что Главный Обитатель Земли – Человек и что он на своей планете считается существом высшего порядка, как суфласк на Блитцовском.
– Каждый индивид именуется Человеком, – добавил я, – а все люди вместе составляют Человечество. Род человеческий огромен, – добавил я, – он насчитывает полтора миллиарда человек.
– Ты хочешь сказать, что их всего-навсего полтора миллиарда – на всей планете?' – возопил разом весь клан, не скрывая издевки.
Я предвидел этот вопрос и невозмутимо ответил:
– Да, всего-навсего полтора миллиарда.
Как и следовало ожидать, последовал взрыв хохота, и Лем Гулливер заметил:
– Вот так штука! На семейство не наберется! У меня одного родственников больше. Тащите вино, фантазия Гека истощается!
Людовик был явно разочарован и огорчен: поэма не на высоте, ей недостает величия, грандиозности. Я сочувствовал ему, но сохранял спокойствие.
– Послушай, Гек, – преодолевая смущение, произнес Людовик, – здесь отсутствует логика, это несерьезно. Такое искусство поверхностно и неосновательно. Сам понимаешь, упомянутое тобой мизерное население не соответствует огромным размерам планеты. У нас оно затерялось бы в самой захудалой деревушке.
– Отнюдь нет, Луи. Это ты несерьезен, а не я. Не спеши с выводами. Ты еще не располагаешь всеми сведениями, не знаешь одной важной детали.
– Какой детали?' мооо-
– Роста этих людей.
– А, роста… Разве они не такие, как мы? ти
– Как тебе сказать… Похожи, но лишь телосложением и лицом, а что касается роста, тут не может быть сравнения. Человеческий род не запрячешь в нашу деревушку.
– А сколько человек туда можно запрятать?
– По правде говоря, ни одного.
– Вот это здорово! Ты метишь в классики, Гек, только смотри, не залетай слишком высоко. Я…
– Оставь его в покое, Луи, – вмешался Лем. – Старая мельница снова заработала! Не расхолаживай парня, дай ему волю. Валяй, Гек, мели больше! Спасай свое доброе имя. Семь бед – один ответ. Ну скажи еще, что даже один громила не укроется в нашей деревне.
– Не смешите меня, – сказал я. – Даже его зонтик не уместится на расстоянии от вашего Северного полюса до экватора. Он скроет из виду две трети вашей малюсенькой планеты.
Мои слова вызвали всеобщее возбуждение.
– Рубашки, рубашки! – закричала вся компания, вскочив на ноги.
Рубашки кружились в воздухе и падали на меня, словно хлопья снега. Людовик был вне себя от восторга, он стиснул меня в объятиях и шептал, задыхаясь от волнения:
– О, это триумф, это триумф, поэма завоевала признание, она великолепна, бесподобна, величественна, ты достиг зенита славы! Я знал, что ты на это способен!
Друзья продолжали беситься, испуская радостные вопли, и при всеобщем шумном одобрении провозгласили меня Имперским Верховным Вождем Лжецов Генриленда с правом передачи титула по мужской линии отныне и вовеки веков. Послышались выкрики:
– Грандиозно! Грандиозно! Да здравствует его величество Человек! Расскажи о нем подробнее!
– Охотно, – сказал я, – все, что хотите. Представьте себе, что ваш Блитцовский одет; так вот – даю слово, – я не раз видел людей, на которых его одежда лопнула бы, попытайся они натянуть ее на себя; вздумай такой человек лечь на вашу планету, он целиком скрыл бы ее под собой
Приятели пришли в неописуемый восторг и заявили, что готовы неделю напролет слушать такие превосходные сказки, что я на десять голов выше любого враля за всю историю суфласков. Как я мог так долго таить от них свой великолепный, блестящий дар! И, конечно, они стали просить:
– Расскажи что-нибудь еще!
Я не возражал. Часа два кряду я занимал их рассказами об Исполине и его планете, перечислял народы и страны, системы правления, главные религии и тому подобное, а сам то и дело косился на Лурбрулгруда в ожидании подвоха. Он был скептик по складу ума. Все знали, что Груд постоянно ведет записи, такая уж у него была привычка. Он вечно норовил заманить кого-нибудь в ловушку и уличить во лжи. Судя по лицам моих слушателей, на сей раз им это не понравилось. Груд их раздражал. Они, разумеется, считали, что я сочинил все эти хитроумные небылицы, чтобы поразвлечь их, а потому несправедливо требовать, чтоб я все помнил, и ловить меня на слове. Как и следовало ожидать, через некоторое время Груд достал свои записи, пробежал их глазами и приготовился выступать. Но Дэйв Копперфилд, подстрекаемый приятелями, зажал ему рот рукой и приказал:
– Спокойно! Помалкивай! Гек вовсе не обязан что-нибудь доказывать. Он с блеском продемонстрировал, каких высот может достичь воображение, если это воображение гения, он придумал поэму, чтобы доставить нам удовольствие, и мы получили удовольствие, верно я говорю, ребята?
– Попал в точку!
– Так вот, повторяю – помалкивай и не расставляй свои ловушки. Он вовсе не обязан держать перед тобой ответ.
– Сказал, как отрезал, – одобрили присутствующие. – Поди прогуляйся, Груд!
– Нет, пусть спрашивает, – вмешался я. – Я не возражаю и готов ответить на его вопросы.
Такой оборот дела их вполне устраивал. Им хотелось послушать, как я буду выкручиваться.
– Погодите! – сказал Лем Гулливер. – Какая же игра без пари? Задавай первый вопрос, Груд, а потом подожди немного.
– Послушай, Гек, – начал Груд, – в самом начале ты блефанул с этой, как ты ее назвал, кубинской войной[41]. Привел смехотворную статистику этой стычки. Повтори ее, пожалуйста.
– Стоп! – сказал Лем. – Ставлю два против одного на ту и другую статистику. Два бэш против одного, что он ничего не вспомнит. Ну, кто согласен держать пари?
Все молчали с понурым видом. Лем, конечно, ехидничал, такой уж у него характер. Людовик рассердился и выкрикнул:
– Держу пари!
– Черт подери, я – тоже! – горячо поддержал его сэр Галаад.
– Идет! Кто еще?
Ответа не последовало.
Лем, потирая руки, злорадно ухмыльнулся:
– Держу пари, ставка та же, что Гек не ответит правильно ни на один вопрос из всего списка. Ну, что скажете?