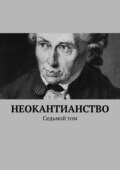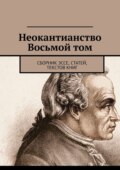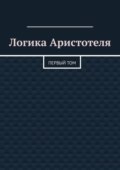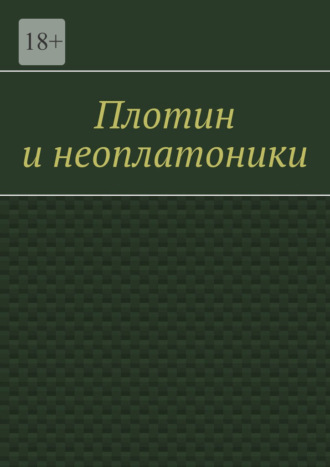
Валерий Алексеевич Антонов
Плотин и неоплатоники
Однако при этом понятийная лестница, по которой он спускается от Единого к миру чувств, обрывается в той же точке, что и у Спинозы и Гегеля, как и всякое выведение данного бытия из неких высших понятий, а именно при переходе от идеи к природе, от разума к реальности, от умопостигаемого, вечного и непространственного к чувственному, пространственно-временному миру опыта; И никакое искусство диалектики не способно преодолеть зияющую пропасть между идеальным и реальным бытием. Причина, по которой Плотин считал себя оправданным вводить определение пространственности в мир-душу, очевидно, заключалась в том, что мир-душа или умопостигаемая субстанция не является «субстанцией» в первом и первоначальном, но только в производном, втором смысле, то есть она должна иметь «субстанцию» интеллекта как первый способ субстанции между собой и Единым и таким образом быть настолько же далекой от последнего, насколько она ближе к миру чувств. Таким образом, мир идей как мир-душа должен быть еще умопостигаемым, но уже содержать в себе наиболее общее определение конечного существования – пространство-время. Как будто термин «субстанция» не был для них совершенно произвольным выбором, обусловленным двойным значением слова dynamis и приравниванием пассивной возможности к актуальной субстанции! Как будто интеллект действительно приближается к реальной субстанции, если философ называет ее субстанцией! Плотин, похоже, обманывает себя тем, что, многократно диалектически меняя понятия формы и субстанции друг на друга, он отдаляется от Единого и приближается к чувственной реальности в той мере, в какой он вставляет понятие субстанции между ней и Единым. Он воображает, что может достичь сверхчувственного или умопостигаемого из сверхчувственного или умопостигаемого и от него далее к чувственному бытию чисто понятийными средствами. Но это именно ошибка новейшего рационализма со времен Декарта, нашедшая свое крайнее выражение в гегелевской диалектике, с той лишь разницей, что последняя для достижения своей цели использует понятия бытия и сознания, которые она диалектически превращает друг в друга и использует друг для друга, тогда как Плотину приходится вместо этого использовать выражения субстанции и формы, энергии и возможности, чтобы невозможное казалось реальным. Однако оба метода основаны на неудачном чередовании различных генитивов как окончательном определяющем мотиве, без постоянного взаимодействия которых в ходе дедукции последняя не сдвинулась бы с места ни здесь, ни там.39
Новейший рационализм исходит из факта сознания (I) и стремится прийти к реальному чисто логическим путем, объявляя сознание-сознание на основе cogito ergo sum бытием в подлинном смысле слова: мышление I (gen. obj.) – мышление I (gen. subj.). Античный рационализм Плотина исходит из тождества возможности и действительности сначала в Едином, а затем в интеллекте или вообще в умопостигаемом, а затем заменяет эти понятия аристотелевскими определениями субстанции и формы, поскольку наивно-натуралистическим образом находит реальность изначально только в субстанции. Правда, по его мнению, умопостигаемое должно иметь природу, отличную от разумной, и, следовательно, само быть умопостигаемым, поскольку только такая субстанция может быть непосредственно тождественна мысли. Но таким образом он приходит не к реальной, а в лучшем случае лишь к воображаемой, идеальной субстанции, к мысли о субстанции; и его уравнение мира-души с миром идей, реального с идеальным, лишь визуализированным пространством-временем, не выводит его за пределы сферы умопостигаемого бытия в сферу реальной действительности. Таким образом, так называемая «природа в Боге», т. е. идеальная природа, мир идей
Идеальная природа, мир идей, как идеальный архетип обычно называемой природы, становится для него единственной подлинно реальной природой; эмпирически данная, чувственно воспринимаемая природа, напротив, испаряется, превращаясь в иллюзорную, неистинную и нереальную. Таким образом, монизм Плотина становится абстрактным монизмом в том смысле, что его Единое, как показано, не только чисто пустое существо, но он также абстрагируется от реальности конечного и сводит множественность мира видимостей к обманчивой иллюзии. Следствием этого, однако, является то, что вся средневековая философия, в той мере, в какой она находилась под влиянием Плотина, низко ценила данную природу, что в результате этого более тысячелетия не существовало настоящего естествознания, как исследования эмпирической реальности, и что попытка Шеллинга внедрить полученные за это время научные результаты в философию на плотиновской основе и дедуктивно вывести их из понятия Все, завершилась жалким крахом всего спиритуалистического монизма. Таким образом, Плотин является не только одной из самых влиятельных, но и одной из самых катастрофических личностей в истории духовного развития. Ведь благодаря абстрактно-монистическому характеру своего мировоззрения он более полутора тысячелетий направлял науку Запада по ложному пути и в конечном счете несет ответственность за то, что и сегодня мы все еще бьемся над задачей установления связи между философией и естествознанием.
ß) Плотиновские «ипостаси» и христианская Троица.
Предыдущее рассмотрение научило нас признавать интеллект продуктом Единого, а мир-душу – продуктом интеллекта. Как интеллект просвещается Единым, то есть получает от него свое содержание, так и мир-душа, в свою очередь, просвещается интеллектом (V 3, 8). Плотин сравнивает Единое со светом, интеллект – с солнцем, мир-душу – с луной, поскольку светящаяся субстанция у всех троих одна и та же, с той лишь разницей, что интеллект наполняется ею непосредственно, а мир-душа – лишь опосредованно. Или же он сравнивает Единое с центром, интеллект – с неподвижным кругом вокруг него, а мир-душу – с кругом, движущимся вокруг него, имея в виду, что интеллект, как постоянно покоящийся, остается в себе, а мир-душа, благодаря временному осуществлению того, что мыслится интеллектом, находится как бы в движении (IV 4, 16). Мир-душа, таким образом, по своей природе тождественен интеллекту, точнее, миру идей, и в этом отношении, как и последний, является продуктом энергии, то есть ипостасью интеллекта. Но это третья ипостась наряду с интеллектом и Единым, ошибочно названная так, и поэтому, как и две последние, возведенная Плотином в самостоятельный и самосуществующий принцип (V 1, 7).
Отношение Единого к интеллекту также понимается Плотином как отношение Отца к Сыну, при этом играет роль идея, что интеллект представляет собой абсолютную полноту, насыщенность и красоту по отношению к абстрактному Единому и что xo’poq по-гречески означает и насыщенность, и Сына (V 9, 8; V 8, 13). Как Сын, однако, Интеллект, как мы уже видели, не только любовно относится к Отцу, и между ними возникает взаимное отношение самого интимного общения (ср. с. 117 выше), но Интеллект также в свою очередь относится как Отец к миру-душе, поскольку наполняет его содержанием и тем самым только в нем реализует себя (V 1, 8; II 3, 18). Подобно Единому, Интеллект также называется великим богом, действительно, воплощением всего божественного, вторым богом, царем истины, истинным владыкой вселенной и божественного порядка, царем царей и отцом других богов, которому все молится (V 5, 3). Таким образом, Плотин отождествляет его с Кроносом из греческой мифологии, мировая душа соответственно подчинена ему под именем Зевса (V 1, 7; ср. IV 4, 10), а Единый обозначен именем Уранос (III 5, 2). Уранос – абсолютно трансцендентное существо. Он стоит вне всякой прямой связи с миром и, по словам Плотина, уступил власть над вселенной своему сыну, который теперь выступает здесь как организующая и определяющая сила. Кронос также подчиняет себе своего собственного отца; стоя между лучшим отцом и меньшим сыном, он также является фактическим творцом мира, поскольку истинная реальность, мир идей, устанавливается им (V 8, 12 и 13; III 8, 11; V 1, 4).
Зевс или мировая душа, с другой стороны, является лишь творцом мира чувств; и даже если его называют мировым творцом или демиургом, мироустроителем и мировым правителем, он является таковым лишь в смысле мастера-ремесленника, который реализует план, разработанный другим. Его деятельность состоит именно в том, чтобы раскрыть умопостигаемый архетип и схему мира или идеальное взаимодействие всех моментов мира в пространстве-времени и определить эмпирически данный порядок мира чувств в соответствии с архетипическим логическим порядком в интеллекте. Уранос, Кронос и Зевс рассматриваются Плотином как три независимых божества, но, тем не менее, они едины, а именно – всего лишь ипостаси, формы видимости или способы проявления умопостигаемых, внутренне-божественных способов существования Единого Божественного, которое само находится вне и до всякой видимости; и эта сфера троякого умопостигаемого противопоставляется миру чувств как то, что является смесью интеллекта и материальности (V 1, 7).
Здесь следует помнить, что Единое, первооснова, поддерживающая субстанция или усия всего сущего, также называется у Плотина ипостасью и тем самым ставится на один и тот же уровень возникновения с интеллектом и миром идей (мир-душа), в то время как фактические ипостаси, а именно мир идей и интеллект, также получают имя усия и тем самым возвышаются до самостоятельных существ (см. выше с. 111 f.). Таким образом, у Плотина мы находим термин usia, применяемый как к носителю всей реальности в целом, так и к сущности, а также к истинной реальности как таковой; и эти три вида usia, которые в принципе представляют только Единое, только в различных отношениях, каждый обозначается как ипостась, продукт абсолютной энергии, внутренне-божественная форма появления, и рассматриваются как субстанции, существующие сами по себе: Одна Усия, таким образом, в трех различных значениях слова ипостась и в то же время три Усии, μία οὐσία ἐι τρισίν ὐποστάσεσιν – но это первоначальная формула христианской Троицы, установленная на Никейском (325) и Константинопольском (381) соборах.
Убедившись в таком происхождении догмата из философии Плотина, трудно не возмутиться той загадочной бессмыслицей и бесполезной тратой изобретательности, с которой Троица до сих пор трактуется богословами. В конце концов, вся «загадка» этого догмата кроется не только в неспособности Плотина различать три значения слова Usia, как того требует греческий язык, но и в склонности древних овеществлять (ипостазировать) абстрактные понятия и раздувать их до реальных и независимых существ! Одна Усия в трех ипостасях: первоначально это означает не что иное, как то, что греческий язык, используемый философом, обозначает субстанцию, сущность и истинную реальность одним и тем же выражением Усия. Единое есть Усия в той мере, в какой оно является абсолютной субстанцией, первоосновой и носителем реальности в целом.
Интеллект, или сущность, – это усия, поскольку он определяет содержание реальности и тем самым является ее «носителем». Наконец, мир идей – это усия, поскольку он является истинно реальным, а иллюзорная реальность мира чувств, так сказать, «цепляется» за него. Однако все три усии – это лишь одна и та же усия, а именно различные формы, в которых единая усия предстает в сфере божественного, и все три одновременно являются ипостасями: мир идей как продукт умопостигаемой энергии, интеллект в силу его тождества с миром идей, Единое, наконец, в силу неспособности Плотина удержать его в его абстрактной бессодержательности и отделенности от умопостигаемой сферы за неимением подходящего выражения. Если мы теперь примем во внимание, что Плотин уже персонифицировал три умопостигаемых принципа и представил их как богов, что он также представлял отношения Единого с интеллектом как отношения отца и сына и в этом смысле как отношения взаимной любви, и что он также представлял мировое море как своего рода любовь. И что он также приписывал мировой душе, которая, по его мнению, занимает место мира идей, именно ту функцию упорядочивания и направления судьбы мира, которую в догмате должен осуществлять Святой Дух, тогда можно отрицать лишь предвзятое отношение к согласию между плотинианской и христианской Троицей, а историческую связь между ними отрицать нельзя.40
По правде говоря, Троица основана на самом чудесном заблуждении, проистекающем из языковой неуклюжести. Если это уже относится к плотиновской Троице, то догмат содержит ошибки Плотина только в огрубленном виде; ведь он (благодаря диверсии латинского перевода слова oiworaoic на «persona») действительно принял всерьез «личности» ипостасей и, отождествив вторую ипостась, или интеллект, с «историческим» Иисусом, испортил историю не меньше, чем спекуляцию. Недавно для обозначения возвышения абстрактных понятий до реальных сил был придуман термин «словесный фетишизм». «Словесный фетишизм» – возвышение абстрактных понятий до реальных сил. Если это выражение и оправдано, то только по отношению к Троице; ведь христианин поклоняется трем «лицам» Божества и позволяет себе обманываться простыми словами.
γ) Сущность мировой души.
Если мы теперь вернемся к мировой душе и рассмотрим ее собственную природу, то, в силу ее тождества с миром идей и, таким образом, косвенно с интеллектом, к ней также применимы все существенные положения последнего. Таким образом, мир-душа также является многоединым, как и интеллект (VI2, 22; VI4, 4). Возвышаясь над пространством и временем, как разумное существо, она тоже неделима и неразделима, сущность, всегда тождественная самой себе, общая всем вещам в их градации, как центр в круге, от которого зависят все линии, идущие к периферии, и берет свое начало, не смещая его со своего места и не изменяя его природы. Однако, будучи существом, чье наглядное содержание организовано пространственно-временным образом и, таким образом, связано с телесным миром, мир-душа все же имеет тенденцию к разделенному бытию и делимости, и это в его природе – выйти из единства с умопостигаемым миром и соединить себя с тем, что делимо само по себе, – с телесными вещами; В этом отношении она также может быть названа делимой, хотя следует отметить, что мировая душа также является целой в каждой части и в этом смысле неделимой (IV 2, 1; IV 1, 1). Таким образом, душа как таковая на самом деле не делима, а является лишь ее репрезентацией в теле.
Кроме того, душа является принципом движения и жизни для себя, как и для других вещей. Все одушевленное получает свою жизнь, все движущееся получает свое движение от души; сама же душа движется из самой себя и является изначальной, неприступной и неуничтожимой жизнью, без признания которой мы впали бы в регресс до бесконечности в объяснении движения и жизни (IV 7, 14). Душа, как и интеллект, есть бесконечная жизнь, и в этом смысле она целиком энергетична; она – живой организм идей, которые обретают в ней действенность и реальность (II 5, 3). Душа тоже мыслит, как и интеллект, но не идеями, а понятиями, logoi в смысле творческих сил, как их понимали стоики. Она отличается от рассудка именно тем, что по собственной воле развертывает в реальность то, что воспринимается рассудком, и доводит это до проявления в чувственном (IV 8, 3; IV 8, 6). Внутренняя деятельность умопостигаемого, происходящая в интеллекте, соответствует внешней деятельности мира-души (II 9, 8). Ибо душа, как мы уже говорили, есть энергия, понятие интеллекта в смысле genitivus objectivus, она есть логос в разуме (ср. с. 85 выше), она есть глава логосов, а они есть энергия, действенность, actus души, действующей согласно своей сущности; сущность же есть dynamis, способность понятий (VI 2, 5; V 1, 3; V 1, 7). Как слово, говорит Плотин, воспроизводит понятие в душе, так понятие воспроизводит идею в интеллекте; оно является как бы интерпретатором последнего (I 2, 3). То, что соединяется в интеллекте, разворачивается как логос в мире-душе, наполняет ее содержанием и, так сказать, пьянит нектаром (III 5, 9). Деятельность интеллекта, как можно выразить это различие, состоит в мышлении (voeiv), тогда как деятельность мировой души – в рефлексии (ckavosiv). Но это есть разделение чистой деятельности мышления (III9, 1), разделение его внутренних моментов, а именно разворачивание их в пространственно-временную форму. Однако ни в коем случае нельзя понимать энергию души как мышление в смысле сознательной рефлексии и ее «понятийную» природу как дискурсивно-логическое развертывание идей в сознательные мысли, как это делает, например, Кирхнер.41
Напротив, Плотин прямо отвергает такую точку зрения. Он знает, что мышление в смысле сознательного размышления и обдумывания – это не преимущество, а умаление деятельности мышления и признак неспособности (VI 4, 1), он не устает при каждом удобном случае подчеркивать интуитивный характер мышления или видения мировой души, которая возвышается над всякой рефлексией (IV 3, 10 и 18). Мир-душа видит пространственно-временной расчлененный мир идей только интеллектуальным, но не чувственным (сознательным) способом. Ибо разложение, различение и суждение мыслей, как это происходит в чувственном восприятии, основано на аффектах, которые испытывает тело; мир-душа, напротив, бестелесна и лишена аффектов (IV 1, 1; IV 4, 42). Если все же время от времени кажется, что Плотин приписывает ей нечто вроде самосознания и дискурсивной рефлексии, то это относится отчасти не к абсолютной душе, а к индивидуальной душе, ограниченной телом, и отчасти «самосознание» мир-души следует рассматривать не как избирательное обращение назад к собственному бытию, а просто как обладание ее субстанциальными определениями, как в случае тождественного с ней интеллекта.
Но даже если видение души – это интеллектуальное видение, оно все равно менее утонченно, чем видение интеллекта. Ибо это не изначальное, а лишь производное интеллектуальное созерцание; и если интеллект созерцает себя непосредственно, то душа созерцает себя только в интеллекте и посредством него (V 3, 6 и 8). В целом, однако, душа, поскольку она есть понятие интеллекта в объективном смысле, во всех отношениях является простым образом интеллекта. Ее творение – это подражание деятельности интеллекта. Как интеллект стремится к Единому, так и мир-душа стремится, в свою очередь, к интеллекту и только через него к Единому; она движется как бы по кругу вокруг интеллекта, так как последний освещает ее своим великолепием, обращает душу к себе и препятствует ее рассеянию (V I, 3; V 5, 3; V 3, 7 – 9; II 3, 18; IV 4, 16; VI 2, n). —
С появлением мировой души число чисто умопостигаемых существ исчерпывается. Нет других принципов, кроме Единого, интеллекта и мировой души. Поэтому Плотин прямо противопоставляет себя гностикам, которые в своей так называемой Пиероме, то есть в сфере умопостигаемого, выделяют еще большее большинство принципов, устанавливают запутанный ряд богов-ипостасей, пар потенций, противоположностей и т. д. и, нагромождая лишние абстракции, приводят в замешательство все учение о принципах. Бессмысленно создавать другие природы, кроме тех, на которые указывает применение понятий реальности и возможности к сфере истинно действительного и существенного, различать покоящийся и движущийся интеллект, отделять мыслящий дух от духа, который думает, что он думает, и т. д. Гностики воображают, что, проведя такое различие, они подошли к сущности умопостигаемого ближе, чем даже Платон, у которого они лишь неверно восприняли эти понятия. На самом деле, однако, они лишь низводят умопостигаемое до уровня чувственного (II 9, 1 и 6). Правда, внутри мира-души все же можно выделить различные моменты, и только таким образом мир-душа может занять посредническое положение между умопостигаемым и умопостигаемым.
Ибо мир-душа изначально есть не что иное, как мир идей внутри интеллекта, рассматриваемый лишь с точки зрения субстанции или возможности в связи с формирующей деятельностью интеллекта. Но умопостигаемая субстанция становится формообразующим принципом мира чувств, поскольку она рассматривает идеи в пространственно-временном порядке и они становятся в ней logoi, то есть творческими и действенными понятиями. Таким образом, мир-душа двоится: одна в своем чистом бытии-в-себе, которая, как неделимое и нераздельное существо, не имеющее отношения к телесному миру, абсолютно нечувственна и сверхчувственна и, в незамутненном созерцании интеллекта, весьма возвышается над чувственным, и другая, которая, разделенная своим отношением к телесному бытию, зависит от первого и порождается им и связана с телом вселенной подобно тому, как душа человека связана с телом человека. Эта, верхняя или благородная душа, называется небесной Афродитой, дочерью Ураноса (Урании) или Кроноса, и ведет чисто рациональную жизнь в умопостигаемом без желаний и без боли рождения в своем подражательном создании идей. Эта, низшая душа, с другой стороны, не является чисто сверхчувственной и чисто рациональной, но омрачена материальностью, так как производит чувственный мир тел через свое видение и называется земной Афродитой, дочерью Зевса и Дионы. Если первая, обращенная внутрь, созерцает сверхчувственные идеи, то вторая, обращенная наружу, господствует в мире телесных вещей. Если последняя спокойно пребывает в себе и смотрит только на себя, то есть на свое собственное визуальное содержание, то она в напряженной деятельности смотрит на другого. Земная Афродита связана с небесной, как материя с формой, и оплодотворяется, так сказать, интеллектом, чтобы творить. Поэтому ей знакомы и родовые муки, и стремление к познанию, и инстинкт исследования: исполненная желания реализовать то, что она увидела в интеллекте, она, беременная им, переходит к множественности индивидуальностей и производит чувственную реальность своими внешними действиями (III 5, 2; III 8, 5; IV 2, 1; IV 7, 18; IV 8, 2; IV 8, 7; V 3, 3; V 3, 7; VI 2, 22). Мы видим, что подобно тому, как Плотин различает внутри интеллекта функцию восприятия и ее продукт, содержание восприятия или мир идей, и приравнивает последний к Единому, так и внутри мира-души он различает функцию и то, что ею производится; и хотя последний предполагается тождественным миру идей внутри интеллекта, он ищет это в реализации идей в чувственные или телесные объекты.
с) Природа.
Однако эта реализация предполагает и другие факторы. Во-первых, ясно, что мир-душа мог бы возникнуть из себя и действовать вовне, если бы вне его не было чего-то, на что он действует (IV 3, 9). Мир-душа, как я уже говорил, все еще принадлежит к сфере умопостигаемого вместе со своей деятельностью. Следовательно, она не могла бы произвести противоположное умопостигаемому, телесный мир, если бы не существовало реальной возможности для этого вне ее собственного существования. Но деятельность или энергия мировой души, которая из этой возможности образует телесную реальность, сама по себе не может быть рациональной, так как рациональная деятельность мировой души состоит в созерцании идей (IV 4, 13). Поэтому она должна быть сама по себе, как действенность, беспричинной и как бы слепой, чистой энергией мировой души без всякого логического определения, которая действует как принцип формы только по отношению к простой возможности телесного бытия в том, что она сама, как субстанция, получает свое содержание от формирующей мировой души и таким образом передает его через свою действенность вышеупомянутой возможности. Эту энергию мировой души Плотин называет природой, тогда как возможность – субстанцией или материей в ее внеинтеллигибельном актуальном смысле.
Природа – это движущая сила мира-души в смысле genitivus subjectivus, материи – в смысле genitivus objectivus. Рожденная от мировой души, как свет рождается от огня, она относится к умопостигаемой субстанции так же, как мировая душа относится к интеллекту, т. е. она есть пассивная возможность или субстанция мировой души, и в то же время она представляет собой форму чувственной субстанции (III 8, 2). Ибо природа получает свою судьбу только через иррадиацию или запечатление со стороны мировой души, так же как последняя обязана своим содержанием только освещению со стороны интеллекта; она действует, таким образом, только от имени последнего, при посредничестве мировой души. Но в то время как вверху она ведет себя чисто принимающим или страдательным образом, внизу она ведет себя отчасти действующим, отчасти страдательным образом, так как она формирует субстанцию в соответствии с идеями, излучаемыми в нее сверху, но в то же время она определяется и ограничивается отличной от нее субстанцией (V 9, 6; IV 4, 13; n 3, 17).
Природа, таким образом, творит в соответствии с идеями, как и мировая душа, от которой она получает эти идеи. Ее творение – это созерцание: Плотин называет природу «созерцающей природой». Глядя, она творит, а творя, она смотрит, причем так, что деятельность или сила творения является чисто как таковая, без всякого замысла и всякого знания, а содержание взгляда дается ей только через просвещение мировой души (IV 4, 13; III 8, 2; II 3, 17; III 8, 7). Однако видение природы не следует понимать как сознательное, понятийное или рефлектированное. Ведь рефлексия предполагает не-бытие; природа же имеет то, что она есть, ее бытие – это ее делание, и поэтому ее творческая деятельность – это тоже непосредственное созерцание (III 8, 3; IV 4, 11). Поэтому, если бы кто-нибудь приписал ей понимание или сознание (σύνεσίν τινα ἤ αισθησίν), то это было бы не такое сознание или понимание, какое мы в иных случаях приписываем вещам, но это было бы подобно сознанию сна по отношению к сознанию бодрствования. Поэтому природа – это спящий дух, по выражению Шеллинга; она действует бессознательно (αφαντάστως) (III6,4). Она покоится, говорит Плотин, в созерцании своего собственного созерцания и является безмолвным и темным созерцанием по отношению к созерцательному содержанию мира-души, образом которого она является (III 8, 4).
g) Первозданная субстанция.
Поскольку природа есть энергия мировой души и во всех отношениях зависит от нее, она тоже принадлежит к той же сфере бытия; это последняя ступень умопостигаемого (IV 4,13). Субстанция же, на которую она действует и на которой впервые раскрывается ее действенность, полностью выходит за пределы этой сферы и является антитезой интеллигибельного.
Теперь мы описали интеллигибельность как абсолютную энергию, эффективность и реальность par excellence. Следовательно, мы должны определить субстанцию как чистую возможность, dynamis в абсолютном смысле. Правда, мы также определили Единое как абсолютный динамис, и мы также провели различие между энергией и динамисом в интеллигибельном; но здесь последнее всегда должно было быть взято только относительно:
то, что в умопостигаемом есть нечто в смысле возможности, является таковым только по отношению к другому, превосходящему его, и в то же время всегда есть также нечто в смысле актуальности, действительно, является актуальностью par excellence; и точно так же все остальное, что ведет себя как возможность, есть в то же время нечто актуальное в другом отношении, как, например, руда, из которой должна быть сделана статуя. Только субстанция в актуальном смысле, о которой здесь идет речь, первоначальная субстанция, как мы хотим ее назвать, есть чистая возможность, не что-то одно, но все в соответствии с возможностью. Это всего лишь пассивная возможность, тогда как Единое мы представляли себе как активную возможность par excellence, как абсолютную способность. Но поскольку оно не есть ничто из существующего, ничто из сущего, оно, следовательно, есть также несуществующая, нереальная вещь. И если оно, тем не менее, претендует на существование, более того, даже претендует на то, чтобы быть предельно реальным, то мы должны охарактеризовать его как простую видимость, как обманчивую иллюзию. Интеллигибельное – это действительно реальное, более того, даже истина. Первозданная субстанция, с другой стороны, есть ложь par excellence; ее истина состоит в том, чтобы не обладать никакой истиной, ее действительное бытие есть чистое небытие (II 5, 4 и 5).
Но как же тогда мы начинаем считаться с субстанцией как принципом? Мы научились познавать мышление как разделение и разложение данного. Однако всякое разложение в конечном счете приводит к чему-то простому, что само уже не может быть разложено, но скорее составляет условие или основание множественности и, следовательно, разложения; и это как раз и есть субстанция в абсолютном смысле. Все определения объекта «концептуальны», то есть имеют ментальную или логическую природу, и могут быть прослежены до логических отношений. Однако, таким образом, они предполагают нечто, к чему обращаются, что составляет основу отношения и, следовательно, само не может быть отношением. Если мы абстрагируемся от всех содержательных определений объекта, мы наталкиваемся на темную землю, которая освещается, так сказать, логическими понятиями (λογοι), подобно тому как цвета появляются только благодаря темной земле. Именно эту темную землю или первооснову мы называем субстанцией (II 4, 5). Но теперь только форма, логическая, понятийная, когнитивная или мыслительная, может быть мыслима и быть объектом познания. Следовательно, мы можем познать субстанцию, как противоположность всему этому, только через ее противопоставление логике или форме (18, 1).
Поэтому мы должны отделить форму от сущности в мысли, мы должны отбросить все возможные формы, более того, мы должны перестать мыслить самих себя, так сказать, «мыслить не-мыслить», если мы хотим мыслить изначальную сущность. «Вот почему ум, – говорит Плотин, – перестает быть самим собой, он становится не-умом, когда пытается увидеть то, что не принадлежит его природе. Он подобен глазу, который удаляется от света, чтобы увидеть тьму, которую он не может видеть; ибо без света он не может видеть, но он может видеть, так что ему кажется, будто он видит тьму. Так и дух отказывается от своего внутреннего света и выходит из себя в то, что чуждо его природе, не принося с собой своего света, и позволяет противоположному своей природе воздействовать на него, чтобы увидеть свою противоположность» (I 8, 9). Только через то же самое можно познать то же самое, и поэтому бездумное может быть познано только через бездумное. В этом смысле Плотин также называет идею субстанции «ложной», не познаваемой через понятие и мысль, но образованной из другого, не истинного, а с понятием другого, и утверждает вместе с Платоном, что она может быть постигнута только через некий «ублюдочный разум». От реального наглядного мышления, однако, образование понятия субстанции отличается тем, что здесь еще мыслится нечто положительное, мышление здесь как бы страдает, как если бы наша душа получала впечатления от бесформенного. Таким образом, насколько ясным и отчетливым является представление о качествах или определениях предмета, настолько же неясным и запутанным является представление о его материальном субстрате. И настолько это представление противоречит природе нашего мышления, что, подобно тому как материя не остается бесформенной, а принимает в вещах определенную форму, так и мы, со своей стороны, сразу же добавляем к ней форму некоторых вещей, поскольку испытываем боль от неопределенного и не можем долго задерживаться на несуществующем (18, 1; II 4, 10).