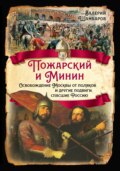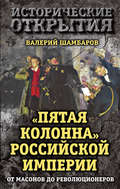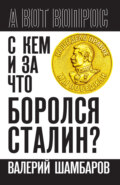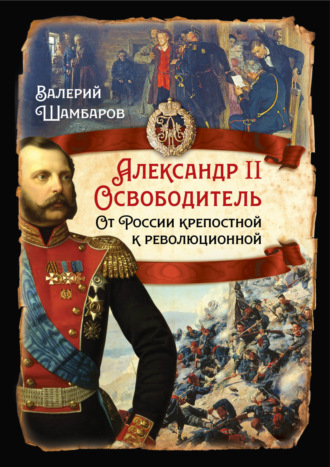
Валерий Шамбаров
Александр II Освободитель. От России крепостной к революционной
Николай I кардинально реформировал систему образования. До сих пор ее основу составляли «классические» гимназии, созданные при Александре I по европейским образцам. Упор делался на гуманитарные дисциплины для воспитания «просвещенного» дворянства и чиновничества. Но стране требовались специалисты! Царь повелел организовывать в гимназиях «реальные» классы для «преподавания технических наук», создавать реальные училища – технические, коммерческие и агрономические. Открывались и новые высшие учебные заведения, женские курсы. Впервые Николай I озаботился массовым образованием крестьян. Для них было устроено более 2,5 тыс. сельских школ, где обучалось 111 тыс. человек.
В 1843 г. осуществилась финансовая реформа, упразднялись обесценившиеся ассигнации, бумажные и медные деньги жестко привязывались к серебряному рублю [25] – и наследник в этом тоже участвовал, заседал в финансовом комитете, обсуждал реформу в Государственном совете. Развивалась и промышленность. К началу царствования Николая I ее состояние было наихудшим за всю историю Российской империи! Экспортировали только сырье – превращаясь в такой же придаток британской экономики, как страны Латинской Америки. Львиная доля изделий высокого качества закупалась за рубежом.
Николай Павлович сумел добиться резкого перелома, в России были созданы технически передовые текстильная и сахарная промышленность, множились фабрики и мастерские по производству стеклянных, фарфоровых изделий, металлообрабатывающие, кожевенные, швейные, обувные предприятия. Родилось отечественное машиностроение, начали изготавливать российские инструменты, станки, даже паровозы. Производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в 30 раз, объем продукции машиностроения – в 33 раза!
Семья наследника росла. Один за другим рождались дети: Александра, Николай, Александр, Владимир… Но и свободного времени для них становилось все меньше, круг обязанностей цесаревича расширялся. С 1843 г. он стал генерал-адъютантом, вошел в Главный штаб. Через год был пожалован в полные генералы, назначен командовать гвардейской пехотой. А в войсках тоже внедрялись новшества. С 1845 г. их перевооружали новыми ружьями, пистолетами. Не кремневыми, а капсюльными. Кремни могли отсыреть, а теперь меньше стало осечек. Для егерей и «застрельщиков» в Бельгии закупили партию «люттихских» штуцеров (нарезных ружей) образца 1843 г. Русские оружейники значительно улучшили их, переделали вместо круглой пули на коническую, их стали выпускать на тульских заводах. Появились первые револьверы Кольта, их тоже стали изготовлять в России, но они были еще «дульными» – каждое гнездо барабана заряжалось, как однозарядный пистолет.
Росла оснащенность флота пароходами, и большая часть из них строилась на отечественных заводах. В Петербурге были построены и три опытные подводные лодки, но эту программу Николай I закрыл – для субмарин еще не существовало подходящих двигателей, паровую машину на них не поставишь, а электродвигатели Якоби были пока слабыми. Царь велел перенацелить ресурсы на более перспективные программы, морские мины и ракеты. Во исполнение его указаний была создана мина Якоби с гальваническим взрывателем, ее запустили в серийное производство. А пороховые ракеты не были новинкой, англичане позаимствовали их у индусов. Но применение ракет ограничивалось низкой точностью стрельбы. Полковник Константинов усовершенствовал их и вместо точности сделал упор на кучность. Создал пусковые установки на 36 ракет калибром 106 мм, синхронизировал систему запуска. Это были первые в мире системы залпового огня! Их тоже приняли на вооружение, в войсках появились ракетные батареи.
Укрепление военной мощи становилось весьма актуальным. Ункяр-Икселесийский договор России с Турцией не давал покоя Англии и Франции. Когда умер султан Махмуд II, они разыграли провокацию. Снова подстрекнули восстать египетского наместника, но нарочно подставили его. Спасать нового султана Абдул-Меджида дружно выступили британцы, австрийцы, французы. А на Лондонской конференции по урегулированию приняли новую конвенцию, закрывшую в мирное время Босфор и Дарданеллы для всех военных судов (и перекрывшую нашему Черноморскому флоту путь в Средиземное море). И покровителями Турции отныне становились все великие державы – Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Россия.
Но реально в Османской империи стала рулить Британия. За «помощь» она навязала султану договор о свободной торговле (за 10 лет обваливший экономику Турции, втянув ее в зависимость от Англии). Послом в Константинополь прибыл Чарльз Стрэтфорд Каннинг – тот самый, что курировал декабристов. Он быстро стал главным советником Абдул-Меджида и вообще самым влиятельным лицом в турецкой столице. Стоит ли удивляться «совпадению», что великим визирем стал Решид-паша, «отец» турецких масонских лож и основатель либеральной партии «Молодая Турция».
Этот поворот сказался на Кавказе. Мюриды Шамиля активизировались. Громили русские посты, нападали даже на города. Массы горцев хлынули вдруг на укрепления по берегу Черного моря. Уничтожили 5 фортов, перебив гарнизоны и открыв путь поставкам из Турции. Русский флот снова высаживал десанты, они отбивали и восстанавливали укрепления. На Кавказ направляли дополнительные силы. Но солдаты и офицеры свежих частей не имели нужной выучки, росли потери. К тому же на Кавказ слали ненадежных «штрафных», польских пленных – из них 3 тыс. перебежали к горцам, из поляков составилась личная охрана Шамиля. У него появились артиллерия под началом польского офицера, свой артиллерийский завод и пороховые фабрики.
А в Австрии умер старый император Франц II, дружественный к России. Его преемником, больным Фердинандом, вертели министры, и страна поползла к либерализму. И в Пруссии скончался тесть и верный друг царя Фридрих Вильгельм III. На престол взошел его сын Фридрих Вильгельм IV, грезивший либеральными идеями и конституцией. Его политика повернула к Англии. Силясь разрядить напряжения, Николай I ездил то в Берлин, то в Вену. В 1844 г. нанес даже неожиданный и неофициальный визит в Лондон, переполошивший всю Англию.
В беседах с членами британского кабинета царь старался разрешить разногласия. Открыл карты, что наша страна ни в коем случае не желает развала Турции. Наоборот, старается подкреплять ее, что уже доказала, спасая султана в 1833 г. Потому что падение Османской империи было чревато общеевропейской войной. Государь раскрыл секретное соглашение с Австрией – всеми силами поддерживать стабильность Турции, а в непредвиденных ситуациях действовать сообща. Такое же соглашение он предлагал Англии [26].
Вот здесь он ошибся. Англичан не интересовали стабильность и европейская безопасность. Они-то специализировались на «ловле рыбки в мутной воде». И соблюдение взаимных интересов, разграничение сфер влияния им тоже были не интересны. Они всюду хотели распоряжаться сами. Британская империя разрослась по земному шару. Ей принадлежали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Капская колония в Южной Африке, Индия, Сингапур, Малакка, Бирма. Она подмяла под себя экономику Центральной и Южной Америки.
Но англичане продолжали расширять эту империю. Из Индии вторглись в Афганистан. Одряхлевший Китай осмелился защищаться высокими пошлинами от засилья британских товаров. Запретил ввоз главного из них, наркотиков. Но Англия начала «опиумную войну», соблазнив поучаствовать Францию и США. Их эскадры бомбардировали густонаселенные прибрежные города, вынудив Китай капитулировать, отдать англичанам Гонконг, открыть порты для торговли. В страну хлынул опиум, превращая народ в наркоманов, подрывая хозяйство и создавая почву для последующего закабаления.
А у царя добавилось семейное несчастье. Серьезно ухудшилось здоровье его супруги. В 1845 г. врачи предписали ей сменить климат, выбрав Сицилию. Николай Павлович очень переживал за жену. Отправившись в очередную инспекционную поездку по южным областям России, он решил сделать императрице сюрприз. Из Харькова повернул за границу. Перехватил Александру Федоровну в Милане, сам проводил до Палермо. Даже это путешествие государь сочетал с важными политическими делами. В Риме провел непростые переговоры с папой Григорием XVI, в Вене – с австрийским канцлером Меттернихом.
А с сыном на период долгой отлучки у Николая I был секрет. О нем знали даже не все сенаторы. Царь фактически передал правление Александру. Отцу за границу наследник посылал только важнейшие документы, краткие выписки решений Государственного совета. Остальные вопросы ему было доверено решать самому. Царские обязанности он выполнил успешно, и за это отец наградил его первым орденом, С в. Владимира I степени.
Николай Павлович не оставлял и замыслов об освобождении крепостных. Еще несколько раз созывал Секретные комитеты по данному вопросу – и теперь включал в них сына. Государь внедрял частные меры вроде запрета приобретать крестьян для безземельных дворян. Вместе с Киселевым он разработал указ об «обязанных крестьянах» – помещик мог отпустить крепостного на волю, заключив с ним договор, что тот, уже свободный, будет платить определенный оброк. Получалось, что дворяне не остаются внакладе, ведь многие из них отпускали крепостных «на оброк» [27]. Император, уверенный в успехе, провел этот проект через Государственный совет, 2 апреля 1842 г. подписал указ. Но… он предполагал добровольное исполнение. А помещикам незачем было внедрять новшество, возиться с договорами. Не откликнулся почти никто, как и на следующий указ от 12 июня 1844 г., о праве освобождать дворовых без земли.
В Грузии еще при Александре I был введен закон, разрешающий крепостным выкупаться на волю при продаже имения с торгов. В 1847 г. Николай Павлович распространил его на всю Россию, подписал соответствующие указ. В перспективе это могло привести к освобождению множества крепостных, дворянство разорялось, 2/3 поместий было заложено. Но царь снова столкнулся с сопротивлением сановников. Разработку конкретных механизмов продажи имений они затянули на 2 года, а в итоговом положении крестьянам дозволялось выкупаться на волю лишь с согласия помещика.
Государь старался улучшить и правила освобождения дворовых, они же не имели земли и хозяйства. Распорядился выделить 100 тыс. руб., давать им ссуды от казны. А 3 марта 1848 г. ввел закон, дозволяющий крепостным приобретать недвижимость на себя, а не на хозяина. В совокупности подобные меры все-таки давали результаты. За время царствования Николая I доля крепостных среди населения России сократилась с 57–58 % до 35–45 %. Для отмены крепостного права формировался юридический фундамент, продавливалась психология дворян, приучая их, что рано или поздно перемена неизбежна. Но довершить великое дело выпало уже сыну.
Глава 6. Монархи и революции

Венгерская армия капитулирует перед русскими
Вольнодумство, поразившее Запад, углублялось от либерализма ко все более разрушительным учениям – социализму, анархизму, коммунизму. Взрыв чуть не полыхнул в 1846 г. В Париже разработали план «Большого восстания» в Польше, одновременно в прусских, российских и австрийских владениях. Завозили оружие, формировали отряды боевиков. В прусскую Познань из Франции перебрался штаб во главе с лидером партии «Молодая Польша» («молодая» – характерное обозначение масонской партии) Людвиком Мерославским. Но в России власти зорко присматривали за порядком, активистов арестовали. Раскрыли заговор и в Пруссии, взяли 254 человека, из них 8, в том числе Мерославского, приговорили к смерти, хотя в исполнение так и не привели.
Только в австрийской Галиции революционеры захватили Краков, призвав поляков к оружию. Николай I привел войска в готовность, но австрийцы придумали, как самим справиться. В Галиции поляки были панами, крестьяне их ненавидели. Правительство отменило в этой области крепостное право и подняло мужиков, назначило вознаграждение за убитых и пленных мятежников. Крестьяне разорили 500 усадеб, прикончили несколько тысяч поляков. Усмирить их, ошалевших от ужаса, уже не составило труда.
Революционная зараза проникала и в Россию. Мы уже отмечали кружок Герцена и Огарева, баламутивший студентов. Прощенный по ходатайствам наследника и Жуковского, Герцен служил в министерстве внутренних дел, в Московском губернском правлении, пока не умер его отец. Получив в наследство богатейшие имения, смог жить безбедно и уехал за границу, сошелся с французскими социалистами.
Белинского и его кружок власти вообще не трогали: он к переворотам не призывал, тайных организаций не создавал. Но он стал знаменем либеральной интеллигенции, наставником целого поколения писателей, обрушивался на «квасной патриотизм», был воинствующим атеистом. Лишь после открытого письма к Гоголю, распространявшегося в списках и отравлявшего умы нападками на Православие и Самодержавие, Белинского вызвали в III Отделение для профилактической беседы. Однако он был уже тяжело болен, так и не дошел.
А с поляками оказался связан первый махровый цветок украинского национализма, «Кирилло-Мефодиевское братство», созданное Костомаровым в Киевском университете. Да, Малороссия морями крови и усилиями России освободилась от польского гнета, в Галиции крестьяне с воодушевлением убивали польских панов, а в это же время малороссийская интеллигенция в основанном царем университете перенимала у польских учителей идеи «освобождения» от России. В 1847 г. арестовали 12 человек. Но хитрый Костомаров специально оговорил в учредительных документах сугубо мирные средства (хотя как можно было этими средствами отделить Украину?), его всего лишь выслали в Саратов, и других наказали мягко.
При расследовании зацепили и Тараса Шевченко. О нем даже Белинский писал: «Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и подлеца, а сверх того, горького пьяницу». К «братству» он не принадлежал, но нашли его стихи, распространявшиеся в рукописях. О мифической украинской «вольности», о плаче под царской властью, памфлеты на государя. Николай Павлович, читая пасквиль про себя, от души хохотал. Но Шевченко позволил себе издеваться над болезнью императрицы – которая в свое время выкупила его из крепостных [28]. Тут уж государь осерчал, сдал автора в солдаты в Оренбургский корпус с запретом писать и рисовать (и он завалил Петербург слезными прошениями о помиловании).
Все революционеры ратовали против крепостничества, в том числе Герцен (отлично живший за рубежом на доходы от своих крепостных). А реальные-то шаги к освобождению предпринимал царь! Воспользовался упразднением крепостного права в Галиции, сразу смягчив его в российской части Польши: ввел «инвентарии», жестко ограничив повинности и оброки крестьян, запретив уменьшать их наделы. В 1847 г. государь ввел аналогичные правила на Правобережной Украине. Намеревался и дальше распространять их на всю Россию. 28 декабря 1852 г. были приняты «Инвентарные правила» для северо-западных и белорусских губерний – но ввести их помешала война.
Кстати, слепо противопоставлять положение российских крепостных «свободным» жителям Европы тоже получается не правомочно. В эти же годы, 1846–1847, в Ирландии случился неурожай, погиб картофель, основная здешняя культура. Крестьяне там были свободными, арендовали землю. Не могли уплатить аренду, и их выгоняли. Причем часто это было лишь предлогом: землевладельцы переходили на более выгодное использование участков, под пастбища. В итоге около миллиона крестьян вымерло от голода. Столько же эмигрировало по всему миру. Могло ли такое быть в России? Забили бы тревогу помещики, царь включил бы механизмы правительственной помощи. Но трагедия разыгралась в Великобритании, бездушие властей и лендлордов никаких возмущений не вызвало.
А в других странах неурожай дополнился экономическим кризисом. Этим пользовалась оппозиция всех мастей от либералов до коммунистов, нагнетая страсти, и в 1848 г. забурила Франция. Перепуганный Луи Филипп шел на любые уступки, отдавал правительство оппозиции, но кто-то спровоцировал столкновение с солдатами, подстрекатели раздули возмущение из-за жертв, и буйные толпы разнесли дворец, сожгли трон. Парламент, из которого все умеренные депутаты разбежались, провозгласил республику.
От Франции беспорядки расплескались во все стороны – на Италию, Германию. Сходки, манифестации, требования «свобод». Причем в Берлине и Вене четко повторился сценарий Парижа. Митинги либералов взвинчивали народ. Неведомые лица провоцировали стычку с войсками с человеческими жертвами – и восстание, захват арсеналов, создание отрядов из рабочих, студентов, уличные баррикады. Монархи капитулировали, объявляли «свободы», уступая власть революционным правительствам и парламентам.
В других местах и без восстаний капитулировали – на поводу у либералов пошли князья Бадена, Гессен-Дармштадта, Вюртемберга, Баварии, Саксонии, Тосканы, король Обеих Сицилий (Южной Италии) Фердинанд II, в Риме сам папа Пий IX ввел конституцию. Но революции на этом не останавливались! К папе из Лондона прибыли лидеры итальянских боевиков Мадзини, Гарибальди, и в вскоре Пию IX пришлось бежать, была провозглашена Римская республика. Повела наступление на то же королевство Обеих Сицилий и других итальянских монархов – невзирая на их конституции.
А у немецких революционеров, кроме «свобод», лозунгом стало объединение Германии – разумеется, по их принципам, во Франкфурте-на-Майне создали общегерманский парламент. В Дании король Фредерик VII в полной мере разделял «передовые» взгляды, конституцию он охотно издал. Но от Дании вдруг отделились герцогства Шлезвиг и Гольштейн. Объявили, что желают быть в объединенной Германии. Другие немецкие государства, охваченные революцией, поддержали их, начали войну с датчанами.
Дунайские княжества, Молдавия и Валахия, были автономными в составе Османской империи, но и Россия по Адрианопольскому договору являлась их покровительницей. Оба княжества были совершенно отсталыми, буржуазия и интеллигенция – зачаточными. Но и там как раз к нужному времени, к 1848 г., изготовилась либеральная оппозиция. Ее взращивала Франция, и кроме обычного набора «свобод» среди здешней «общественности» культивировался искусственный национализм. Это был масонский проект, названия «валахи» и «молдаване» заменялись новым гордым термином «румыны» (римляне!). Разрабатывался «румынский язык», традиционную кириллицу заменяли латиницей. Направленность была вполне определенной – избавиться от влияния России и слить два княжества в единую Румынию, ориентированную на Запад.
В Яссах, столице Молдавии, собралась тысяча оппозиционеров, предъявили конституционные требования господарю Михаилу Стурдзе. Он приказал арестовать смутьянов, но они разбежались по селам и взбунтовали крестьян. В Валахии либералы учли опыт соседей, начали с крестьян. Двинулись с ними на Бухарест, солдаты стали переходить на их сторону. Поэтому господарь Георгий Бибеску конституцию подписал, но тут же сбежал. Власть захватило временное правительство. Оно очень боялось русских, защиту видело в турках, мечтало поссорить их с Россией. Для этого султану отправило огромную дань, долги за много лет – однако пришлось ограбить собственный народ, вызвав общее возмущение.
А в Пруссии при объявлении амнистии вышли на свободу польские заговорщики во главе с Мерославским. Местные революционеры им сочувствовали, подхватили лозунг, что «свободная Польша» станет для них щитом против России. Мерославскому дали оружие из прусских арсеналов. К нему потекли эмигранты из Франции и Англии, деньгами на дорогу их снабжали французы, а прусские революционные власти бесплатно перевозили по железным дорогам, устраивали торжественные встречи. В военных лагерях около Познани собралось 7 тыс. человек. Они вели себя агрессивно, грабили немцев. Но король и правительство боялись ссориться с революционной «общественностью», запрещали войскам трогать поляков.
Николай I воспринял пожар революций как вызов существующему мировому порядку – и опасность для России. Нет, он не собирался усмирять западных смутьянов, пока это будет их внутренними делами. Гвардейцев заверил: он «дает слово, что за этих бездельников французов не будет пролито ни капли русской крови» [29]. Но не собирался и мириться с угрозами для нашей страны, ее интересов – по Европе уже разгорались войны, революционеры пытались распространять «свободы» штыками. Государь повелел армии выдвигаться к западным границам.
И одно лишь это, еще без выстрелов, помогло одержать важную победу. Перепугались прусские либералы. Осознали, что буйные поляки Мерославского обязательно заденут русских – и навлекут беду на Пруссию, вооружившую и приютившую их. Король все же направил на поляков войска. В боях полегло две сотни человек, но отряды разоружили. 1500 человек и сам Мерославский попали в тюрьму. Однако Франция даже заявила официальный дипломатический протест – и польского лидера отпустили. Откуда видно: революция распространялась по Европе совсем не стихийным образом. И все же гнойник у российских границ был ликвидирован.
Да и прусскому королю разгром поляков помог осознать свою силу, преодолеть трусость. А большинство его подданных на себе почувствовали, что жить в мятежах и манифестациях, под дудку распоясавшейся черни, совсем не уютно. 14 тыс. берлинцев собрали подписи, чтобы король ввел войска в столицу, и он начал брать ситуацию под контроль, разоружать революционные дружины. Николай I спас и Данию. Сепаратисты Шлезвига и Гольштейна с контингентами других германских государств одолевали ее. Но как только их армия приближалась к Копенгагену, у датских берегов трижды выразительно появлялась эскадра нашего Балтийского флота, и немцы тут же скисали, соглашались заключить перемирие и сесть за стол переговоров.
Россию обеспокоила и смута у южных границ, в Молдавии и Валахии. Но государь предложил султану совместные действия – не хотел вмешиваться односторонне, чтобы не портить отношения с Турцией, да и с населением Дунайских княжеств, видевшем в русских друзей. Абдул-Меджид под влиянием британского посла Каннинга усмирять либеральных мятежников не спешил. Однако Николай I все же убедил его, что может посыпаться вся его империя. В Валахию двинулся корпус Фауда-паши, за день разогнал местные отряды и занял Бухарест. Турки вели себя непривычно мягко. Лидеров мятежа, 91 человека, просто выслали из страны. Но и царь вел себя мудро, направив в княжества корпус генерала Лидерса. Как только он вступил в Молдавию, бунтующие крестьяне притихли без всякого усмирения. А в Валахию русские вошли, когда турки уже навели там порядок.
Для защиты собственной страны от революционной заразы Николай I ввел в приграничных губерниях особое положение – мятежи и подрывные акции требовал пресекать жестко, виновных предавать военно-полевым судам. Но и во внутренних областях ужесточалась цензура, закрывались издания с оппозиционным душком. В европейских революциях особенно активно использовались студенты, и царь запретил посылать молодежь учиться за границу. В российские учебные заведения распорядился отбирать студентов «строгой нравственности». Ввел для студентов и старших классов гимназий новый предмет, военную подготовку.
Усиливался и полицейский надзор. То, на что год назад не обратили бы внимания, влекло наказания. За «вольнодумство» в печати чиновник военного министерства Салтыков-Щедрин был переведен в гражданское ведомство в Вятку (но с повышением). Были арестованы сотрудники министерства внутренних дел, славянофилы Самарин и Аксаков – по сути, они распространяли те же либеральные идеи, но со «славянским» уклоном, возбуждая вражду к «немцам». Император и шеф III Отделения Орлов беседовали с ними лично, пропесочили за разжигание национальной розни, перевели по службе в провинцию.
А среди столичных студентов и интеллигенции обнаружили несколько тайных организаций. Кружку Введенского, куда входил молодой Чернышевский, удалось «отмазаться» через высокопоставленных знакомых. Другой кружок, Буташевича-Петрашевского, разгорячившись, строил планы поднимать на революцию народ. Крестьян настраивать против помещиков, чиновников – против начальства, при этом «подрывать и разрушать всякие религиозные чувства». Обсуждали, как лучше взбунтовать людей на Кавказе, в Сибири, Прибалтике, Польше, Малороссии. Дальше разговоров дело не дошло, но попало под статьи очень суровые.
Арестовали 40 человек, из них 24 попали под военный суд, и 21 (в том числе начинающий писатель Достоевский) были приговорены к смертной казни. Правда, заведомо для острастки. Сам же суд одновременно с приговором ходатайствовал о его смягчении. Царь действительно всех помиловал, Петрашевский получил пожизненную каторгу, трое – по 2–4 года каторги, остальные – ссылки или сдачу в солдаты. Однако увлекшихся «ниспровергателей» все-таки пуганули как следует. Привели на расстрел, надели смертные рубахи, позволили исповедоваться. Троих привязали к столбам, и лишь тогда объявили о помиловании. Жестоко? А может, это и был действенный способ вразумить обнаглевших молодых людей, занесшихся крушить все святое?
Впрочем, для Запада такое наказание сочли бы шуточным. Там с противниками не церемонились. Во Франции на выборах в Учредительное собрание победили либералы. Социалисты с коммунистами оказались «за бортом» и снова подняли Париж, строили баррикады. Но Учредительное собрание передало диктаторскую власть генералу Кавеньяку, и он раздавил бунт. За 3 дня расстреляли 11 тыс. человек. И никто во Франции Кавеньяка не обвинял в «зверствах». В полном шоке был только Герцен, очутившийся в это время в Париже. Писал: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу!»; «Я стыжусь и краснею за Францию. Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается».
Кавеньяк позакрывал все политические организации и левые издания до президентских выборов – не сомневаясь, что он и выиграет, власть была в его руках. Но его расстрелы все же встревожили либералов: такой президент может скрутить в бараний рог. Он стал врагом и для рабочих. И не устраивал… Англию. При диктатуре генерала Франция усилится – а она была соперницей. Неожиданно вынырнула фигура Луи Наполеона Бонапарта – племянника императора Наполеона. Он был просто авантюристом, несколько раз сидел в тюрьмах и приехал из Англии, пристроившись к республиканцам. Но у него вдруг нашлись квалифицированные помощники, он умело вел агитацию, играя на громкой славе дяди, ностальгии по золотому веку Франции. Из-за рубежа пошло финансирование избирательной кампании, замаскированное под пожертвования его любовницы, британской актрисы Говард.
На выборах Луи Наполеон победил триумфально, набрал 75 % голосов. Принес присягу на верность республике и конституции. А одним из первых шагов послал войска на помощь римскому папе. Разгромил Римскую республику, вернул Пия IX на престол – чем приобрел колоссальную популярность у французских католиков и консерваторов. Хотя и для англичан это получилось выгодно. Иначе объединение Италии могло произойти под эгидой Франции. А теперь французы испортили репутацию среди итальянцев.
Но хуже всего дела обстояли у Австрии. От нее отделились Чехия, Венгрия, восстали австрийские владения в Италии – Милан, Венеция, Парма, Модена. Их поддержало, объявив войну, Сардинское королевство (Северная Италия). Однако и Вена бушевала. При любой попытке нормализовать ситуацию поднимала восстания. Студенческие и рабочие вооруженные отряды убивали неугодных сановников, вынуждая императора и министров идти на новые уступки или убегать из столицы.
Правительство кое-как собрало верные войска. Они усмирили Чехию, штурмом взяли Вену. Революционеров и здесь не щадили, перебили 2 тыс. Больной император Фердинанд нагрузок не вынес, отрекся в пользу 18-летнего племянника Франца Иосифа. Он сформировал консервативное правительство, распустил парламент, вместо революционной конституции ввел свою, ограниченную.
Но главным эпицентром революции, уже не только австрийским, а европейским, стала Венгрия. Она нового императора не признала, провозгласила республику (превратившуюся в военную диктатуру Кошута). Сюда стекались смутьяны изо всех стран. Формировались легионы Итальянский, Германский, Венский (из разбежавшихся столичных боевиков). И Польский тоже, командные посты в Венгрии получали польские генералы, с которыми русские не так давно сражались. Венгерская армия, 190 тыс. штыков и сабель, 400 орудий, в марте 1849 г. перешла в наступление на Вену, смяла австрийцев.
А это значило, что снова взорвутся восстаниями Вена, Чехия, подавленные было республики в Италии. Франц Иосиф в полном отчаянии воззвал о спасении к царю. Но Николай Павлович и сам видел: пожар полыхал рядом с нашими границами. А Польский легион наглядно показывал: агрессия нацелена и против России. Государь сразу разослал приказы и сам выехал в Варшаву. К нему прикатил Франц Иосиф, повторяя мольбы о помощи. Царь ободрил его, что защищать законную власть от злоумышленников считает священным долгом. 21 мая 1849 г. подписали договор. Россия направляла армию на подавление революции, на время боевых действий ее гарнизоны оставались в Валахии, Молдавии и Галиции.
Еще до заключения договора на выручку соседей спешно послали дивизию генерала Панютина. Она подкрепила отступающих австрийцев, прорыв венгров остановили. И ударили на них с двух сторон. Корпус Лидерса из Валахии и Молдавии, армия Паскевича – через Галицию и Карпаты. Наследник Александр задержался в России – отправлял из Ревеля эскадру в очередное плавание защитить Данию. Но он вместо болевшего дяди Михаила принял командование над Гвардейским и Гренадерским корпусами, выступившими на войну. По дороге из Ревеля догнал и проверял полки, прибыв к отцу.
С Паскевичем в поход царь отправил второго сына, 21-летнего генерал-адмирала Константина, а Александра оставил при себе в Варшаве, осуществлять общее руководство операцией. Она была победоносной. Корпус Лидерса вдребезги разнес венгерскую армию Бема. А главную их армию Гергея с одной стороны били австрийцы с Панютиным, с другой – войска Паскевича. Предводители революции и поляки побежали спасаться в Турцию. У Гергея, которому удравший Кошут передал полномочия «диктатора», осталось 30 тыс. бойцов и 144 орудия, и он капитулировал перед русскими – но не перед австрийцами, которые его не победили.
Получив об этом известие, государь 2 августа отправил наследника послом к Францу Иосифу – поздравить его с благополучным концом мятежа. Но Александр получил и неофициальное поручение отца. Добиться помилования для венгерских генералов, сдавшихся нашим войскам. По договору их предстояло выдать австрийцам, а они всех пленных командиров расстреливали. В Вене Александра приняли с чрезвычайным почетом, и задание он выполнил. Франц Иосиф пощадил Гергея и его соратников, они отделались тюрьмой, а позже были освобождены.