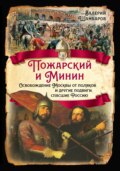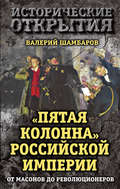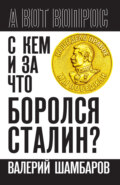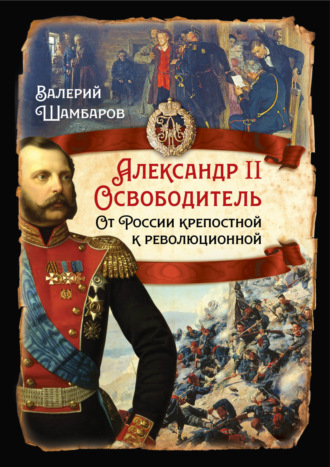
Валерий Шамбаров
Александр II Освободитель. От России крепостной к революционной
Глава 8. Мифы и реальность Крымской войны

Оборона Петропавловска-Камчатского
Бойню в Черногории все же удалось остановить. К гневным нотам России присоединилась Австрия, поддержав иллюзию союза, и в феврале 1853 г. султан отвел войска. Но без всякого документального закрепления примирения – мог в любой момент возобновить войну. Тогда царь направил в Турцию морского министра Меншикова с требованиями заключить официальный договор о признании прав греческой Церкви на Святые Места в Палестине и права царя на покровительство христианам в Османской империи.
Но тут же и Наполеон III послал в Эгейское море военную эскадру. Британцы не реагировали, их флот стоял на базах. Однако дирижировал султаном английский посол Каннинг. Подучал не отказывать русским – но и не выполнять. Абдул-Междид вроде бы согласился с требованиями, а вот заключение договора отверг. 1 июня Россия разорвала дипломатические отношения с Османской империей. Это было лишь предупреждением, но… турки в ответ объявили мобилизацию и двинули к Дунаю 160-тысячную армию.
Николай I сделал более грозное предупреждение. 14 июня повелел ввести войска в Молдавию и Валахию. Имел на это право по Адрианопольскому договору, чем уже пользовался. Армия генерала Михаила Горчакова была небольшая, два корпуса. Ей категорически запрещались любые столкновения с турками, предписывалась только «мирно-военная демонстрация». Царь объявил, что занимает Дунайские княжества «в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России». И… тут-то пришел в движение британский флот, тоже отчалил к турецким берегам.
Английские газеты дружно прекратили нападки на Наполеона III. Напротив, превращали его в выдающуюся личность. Расхваливали и Абдул-Меджида как поборника «демократических» реформ. «Дейли Ньюс» внушала, что христиане в Османской империи пользуются большей религиозной свободой, чем в православной России. А султан под этот аккомпанемент воззвал к западным державам. Царь попросил Франца Иосифа помочь, совместно надавить на турок. Но австрийцы вместо этого предложили посредничество, созвали в Вене конференцию великих держав.
Англия, Франция, Австрия и Пруссия выработали условия примирения – Россия выводит войска из Дунайских княжеств, а султан признает права царя на защиту православных в Османской империи и на контроль над Святыми Местами в Палестине. Именно то, чего добивался Николай I, он сразу согласился. Но британская и французская дипломатия действовала по тайному плану, «не выпускать Россию из войны». В Вене они подписали условия, а султан под диктовку Каннинга под формальными предлогами отклонил их! Зато сам 27 сентября вдруг предъявил ультиматум: в две недели вывести русские войска из Валахии и Молдавии, иначе война.
Причем так рвался разжечь ее, что даже не дождался поставленного срока, объявил ее через неделю. Русские об этом еще не знали, а турки изготовились и напали внезапно. На неукрепленном посту С в. Николая у Черного моря было 255 солдат капитана Щербакова с 2 пушками и две сотни грузинских ополченцев князя Гуриели. В ночь на 16 октября после шквальной бомбардировки на них хлынули 5 тыс. аскеров. Защитники дрались до конца, большинство погибло, прорвались и скрылись в лесу 3 израненных офицера, 24 солдата и несколько ополченцев. А турки, захватив пост, устроили дикую расправу. Таможенника распяли, священнику отрезали голову, детей и женщин перерезали – у одной, беременной, заживо вырвали плод.
Но это был их единственный успех, невзирая на неожиданность. В Армении 40-тысячную армию Ахмет-паши разбил и обратил в бегство впятеро меньший отряд князя Бебутова. 18-тысячный корпус Али-паши, двинувшийся на Тифлис, разнесли под Ахалцихом 7 тыс. солдат и казаков генерала Андроникова. Побили турок и на Дунае, где они полезли переправляться. На Черном море русские корабли захватили в боях 2 вражеских военных парохода. Турки планировали высадить крупные десанты в Сухуме и Поти, прорываться на соединение с мюридами Шамиля. Для этого в Синопе собирались корабли, войска, снаряжение.
На разведку к берегам Кавказа отправился на трех пароходофрегатах английский адмирал Слэйд, фактически командовавший османским флотом. Он нарвался на парусный фрегат «Флора». В упорной схватке русские подбили неприятельский флагман, его утащили на буксире. А проверить донесения насчет Синопа было поручено вице-адмиралу Нахимову. Он обнаружил в бухте 7 турецких фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 4 транспорта под прикрытием береговых батарей. 18 ноября Нахимов атаковал их и уничтожил – с очень маленькими русскими потерями, 37 погибших и 233 раненых. Из всей неприятельской эскадры удрал лишь Слэйд на пароходофрегате «Таиф».
Но именно эта победа стала поводом для западной агрессии. Европа буквально взорвалась злобой. Бесчинства на посту С в. Николая и в Армении она, как обычно «не заметила», а теперь вся пресса развопилась, будто наши моряки разгромили чуть ли не мирный город. Выплеснулась и прежняя грязь про Кавказ, Польшу, Венгрию, угрозу «цивилизации». Лорд Рассел в парламенте провозглашал: «Надо вырвать клыки у медведя!» А лондонская «Таймс» призывала «загнать московитов вглубь лесов и степей». В Черное море вошли английская и французская эскадры – пока якобы для охраны турецких портов. Но зазвучали и угрозы, ультиматумы.
Николай I обратился к своим союзникам, Австрии и Пруссии. На случай европейской войны предложил им занять нейтралитет, «поддержанный оружием». Однако они уклонились, а между собой заключали тайные соглашения против России. Об этом опять узнал посол Александр Горчаков – и опять Нессельроде не отреагировал на его донесения, царя не известил. Русские планы остались теми же, что в прошлой войне. Нанести главный удар на Дунае, прорваться за Балканы, в Османской империи забурлят восстания христианских народов, и она запросит мира. Даже английской и французской эскадр на Черном море царь не слишком опасался. Они смогут разве что бомбардировать наши порты, но и сами крепко получат, Россия – не Китай. А когда русские выйдут к Константинополю, запрут их в Черном море или заставят уносить ноги.
В марте 1854 г. армия Паскевича форсировала Дунай, сожгла артиллерией и ракетными установками турецкую Дунайскую флотилию. С ходу захватила крепости Тульча, Исакча, Мачин, подступила к самой мощной, Силистрии. Начались и восстания против турок в Эпире, Македонии, Фессалии, на Крите. Но Англия и Франция объявили России войну. В Константинополе высадились их войска. Между прочим, вели себя так же, как привыкли обращаться с «туземцами» в Индии или Алжире. Турки, помнившие оккупацию Адрианополя в 1829 г., сопоставляли, что русские враги лучше, чем английские и французские «друзья». Султану они дали артиллерию, солдат, корабли для быстрой переброски войск – и восстания раздавили.
А под Силистрией был уже назначен штурм, полки выходили на исходные позиции, но примчался офицер с приказом: немедленно отступить. Открыла свое лицо Австрия. Заключила с турками договор, что займет Валахию и Молдавию, а от России потребовала очистить их. Австрийская армия угрожала теперь флангу и тылу нашего фронта. Войскам Паскевича пришлось отходить на свою территорию. Турки возбудились было преследовать, но русские под Журжей положили 5 тыс. аскеров, и их пыл убавился. Австрийцы тоже не забыли силу царской армии. Перешли границу, только когда она удалилась. Зато сменили турок в качестве оккупантов. 100 тыс. воинов Омера-паши присоединились к 40 тыс. французов и 20 тыс. англичан, которые высадились в Варне.
Впрочем, стоит обратить внимание – вся история этой войны оказалась искажена западными и либеральными мифами, как «отсталая крепостническая» Россия потерпела поражение в схватке с «передовыми» Англией и Францией. Дескать, царские войска учили только строевой муштре, а «отсталость» была очевидной: парусники против пароходов, гладкоствольные ружья против штуцеров Энфилда, бивших на 1250 ярдов, расстреливавших артиллерийскую прислугу, оставаясь за пределами огня наших пушек…
Факты говорят совсем о другом. Русская армия проявила великолепные боевые качества и в польской, и в венгерской, и в той же Крымской войне. А тактика во всех европейских станах была одинаковая. Необходимость держать плотный строй для ударов в штыки, отражения неприятельских атак, залповой стрельбы диктовала строевую муштру – у всех. Рассыпному строю и прицельной стрельбе учили только егерей, у французов – зуавов (алжирских стрелков).
Что касается флота, то первый в мире военный пароход «Скорый» был построен в России на Ижорских заводах в 1818 г., на 3 года опередив англичан. Но… первые пароходы были колесными! Их скорость и маневренность были низкими. Огромные колеса по бортам мешали устанавливать бортовую, самую мощную артиллерию. И сами были слишком уязвимыми в бою. Одно попадание ядра, и все. Поэтому во всех флотах мира главной силой оставались парусные корабли. Паровые шхуны и фрегаты (их называли пароходофрегатами) играли вспомогательную роль.
Лишь в 1838 г. в Англии был создан винтовой пароход, причем лет 5 решали, какие же лучше, колесные или винтовые. И уже буквально перед войной поняли, что в винтовые корабли довольно просто переделывать парусники. Деревянный корпус разрезали пополам, делали вставку с паровой машиной. Но она была очень ненадежной, часто выходила из строя и играла чисто вспомогательную роль. Из 51 английских и французских линейных кораблей, участвовавших в войне, 32 оставались парусными, а 19 переоборудовали под паровые двигатели.
В российском военном флоте на начало войны имелось 44 парохода. Но винтовой, 44-пушечный «Полкан» был только один, строилось еще три. Как видим, противники опередили русских не в плане технического прогресса, а чисто количественно. Но стоит иметь в виду и другое: морских сражений с англичанами и французами не было! Потому что по количеству боевых кораблей и огневой мощи британский флот был самым сильным в мире, вдвое превосходил русский. Французский был на втором месте. Когда они объединились, добавив еще и османский флот, выходить на битву с ними стало самоубийством. Ход морской войны определили вовсе не передовые технологии, а подавляющее численное превосходство неприятелей!
Артиллерия у обеих сторон недалеко ушла от наполеоновских войск. Бронзовые и чугунные пушки заряжались с дула, били ядрами (дальность около 1 км) или картечью (до 600 м). Мортиры и гаубицы заряжались разрывными бомбами. Были и крупнокалиберные «бомбические» орудия, стреляли бомбами не навесным огнем, как мортиры, а настильным – на 2000–2500 м. Они тоже имелись у обеих сторон. Хотя в России еще с 1757 г. имелись и легкие «единороги», способные стрелять как ядрами, так и разрывными гранатами.
А вот насчет стрелкового оружия в историческую литературу внедрилась откровенная подтасовка. Дело в том, что винтовки, заряжающиеся патронами с казенной части, имелись только в одной армии – в прусской, винтовки Дрейзе, и их держали в строжайшем секрете. Во всех остальных государствах ружья были еще длинноствольными, крупнокалиберными (15–18 мм), заряжались с дула – отдельно порох, пуля, пыж. А нарезные штуцеры вовсе не были новым изобретением, как часто представляют. Их использовали еще с XVIII в., они заряжались так же.
И если уж разобраться, то русская пехота была вооружена лучше французской или английской: новыми капсюльными гладкостволками образца 1845 г. (прицельная дальность 100 саженей – 213 м). Егерям и «застрельщикам» (лучшим стрелкам, по 26 на батальон) выдавали «люттихские» штуцеры (прицельная дальность до 600 м, максимальная 853 м). У французов был принят на вооружение штуцер Тувенена 1842 г., примерно с такими же характеристиками. Им тоже были вооружены не все солдаты, а только егеря (5 батальонов) и дивизия зуавов. Остальная французская армия отправилась на войну с ружьями образца 1777 г. Не капсюльными, а еще кремневыми! Хуже всего было у англичан: гладкоствольные кремневые ружья «Браун Бесс» образца… 1722 г. Для лучших стрелков штуцеры Бейкера образца 1800 г. (прицельная дальность 183 м).
Почему винтовки давали не всем? При большей дальности и точности стрельбы у них были серьезные изъяны. Их долго было заряжать, из-за нарезок пулю в ствол вгоняли с большим усилием (у французов ее заколачивали, чтобы пуля сплющилась и вжалась в нарезы ствола, из-за этого она теряла и баллистические свойства, летела абы как). Штуцеры были и очень капризными. Нарезки забивал пороховой нагар. Стволы приходилось не только чистить, но и промывать. Иначе штуцеры было невозможно зарядить, могло разорвать по нарезкам.
И вдруг после первых сражений британская пресса подняла шумиху о штуцерах Энфилда, как они поражают русских с 1250 ярдов (1143 м). Хотя в это время винтовки Энфилда на фронте еще не было, она стала поступать в войска с февраля 1855 г., заменяя прежнее старье. А историки, даже военные, почему-то не замечают несуразицу. Указанная дальность стрельбы доступна разве что для современной снайперской винтовки СВД! Да и то на такой дистанции предусматривается «беспокоящий огонь» или стрельба по групповым целям. Реальная же прицельная дальность Энфилда составляла 300 ярдов (274 м). Чуть больше, чем у русской гладкостволки, и меньше, чем у «люттихского» штуцера. Максимальная дальность полета пули достигала 660 м, а убойная сила сохранялась на 381 м. Именно такую дальность стрельбы заявил изготовитель. Но в документации каким-то образом, случайно или нарочно, футы заменились на ярды, и дальность увеличилась втрое! Отсюда и взялись пресловутые 1250 ярдов.
Вполне вероятно, что это была обычная реклама. Одни лишь США закупили у англичан 900 тыс. таких винтовок. Хотя вскоре убедились в очень низких боевых качествах. В битве при Шайо в 1861 г. армия южан решила из хваленых Энфилдов расстрелять армию северян с полумили (800 м). Израсходовала все патроны, не нанеся противнику ни малейшего вреда. В полной мере сказывались и проблемы с заряжанием, чисткой. Перед тем как вогнать пулю (калибра 15 мм) в ствол, ее еще требовалось обернуть кожаной прокладочкой, пропитанной салом, сзади вставить в углубление деревянную втулку, а потом крепко забивать в дуло. Британские солдаты плевались от Энфилдов (так же, как французы и русские – от своих штуцеров), охотно меняли их на привычных «старушек Браун Бесс» [13, с. 360–364].
Нет, я не хочу сказать, что у противников не было полезных новинок. У французов появился 6-зарядный револьвер Лефоше, он уже снаряжался картонными патронами. Но это было офицерское оружие, на ход войны оно никак не повлияло. И такой рекламы, как англичане, французы револьверу не сделали. Однако и в России были новинки, которых не имелось на Западе. Морские мины Якоби, залповые ракетные установки Константинова (калибр 106 мм, дальность огня – 2600 м, больше, чем артиллерия той эпохи). Они уже успешно применялись. Так кто же от кого отставал в военно-технической области? Война стимулировала и железнодорожное строительство. Кроме действующей Николаевской магистрали, в 1854 г. начались работы по прокладке железных дорог от Москвы до Одессы с ответвлениями на Крым и Донбасс.
И даже с названием «Крымской» войны допущена подтасовка. Выпячен единственный театр боевых действий, где враги России добились хоть каких-то успехов (очень далеких от желаемых). А сражения-то велись на огромных пространствах от Балтики до Тихого океана. На Черном море вражеский флот, 28 кораблей, обрушил ураганный огонь на почти неукрепленную Одессу. Отвечали 4 старые пушки юного прапорщика Щеголева, только что из кадетского училища. Выбитых артиллеристов заменяли прибежавшие мальчишки из лицея. Продержались, пока подошли резервы, развернули полевую артиллерию. Десант отразили, подбили 4 вражеских фрегата, и эскадра убралась. Щеголева император произвел «в подпоручики, поручики и штабс-капитаны», а батарею повелел назвать его именем. При втором набеге на Одессу англичане потеряли пароходофрегат «Тигр», подбитый и захваченный казаками. Попытки неприятельских эскадр бомбардировать Севастополь и Очаков, где стояла русская гребная флотилия, встретили мощный отпор – и они поворачивали прочь, чинить поврежденные корабли.
Но одновременно, еще за две недели до объявления войны (!), огромный англо-французский флот адмиралов Нейпира и Персеваля-Дашена, 26 линейных кораблей, 39 фрегатов и масса мелких судов, двинулся на Балтику. Его провожала лично королева Виктория – и о любви к цесаревичу больше речи не было. Сами проводы были символическим актом: удар прямо на Петербург сулил победу. На сторону врагов России перекинулась и Дания, которую недавно спасали от немцев и сепаратистов. Она свободно пропустила армаду через свои проливы.
Петербургская губерния была объявлена на военном положении. Командующим войсками столичного округа царь назначил наследника, поручил ему оборону побережья. Его помощником стал офицер по особым поручениям военного министерства полковник Дмитрий Милютин. Расставляли посты и батареи, обсуждали взаимодействие с начальником морского ведомства, братом Константином. Впрочем, план обороны был уже заранее разработан под руководством самого царя.
В апреле вражеский флот вошел в Финский залив. Русские моряки на битву с превосходящими силами не вышли. Нейпир выслал пароходы разведать фарватеры и укрепления Кронштадта и… грохнули взрывы. Впервые в истории были выставлены заграждения, 1500 мин. А при более внимательной разведке неприятели обнаружили другие сюрпризы. Минные поля прикрывались артиллерией и ракетными установками. Впервые была оборудована минно-артиллерийская позиция (эта методика применялась потом и в Первой мировой, и в Великой Отечественной, сыграв решающую роль в морской обороне Петрограда и Ленинграда).
Царь с сыновьями и специалистами обсуждали и крайний вариант – если противник будет тралить мины, прорываться к столице. Одобрили идею капитана 2-го ранга Шестакова. В рекордные сроки, всего за 4 месяца, были построены 32 канонерские лодки с крупнокалиберными бомбическими орудиями. Деревянные, но паровые, с винтовыми двигателями! Потом, до конца войны, построили еще 49 легких артиллерийских винтовых кораблей. Паровые двигатели для них изготовлялись в петербургских механических мастерских под руководством чиновника и инженера Николая Путилова – вскоре он станет хозяином знаменитых Путиловских заводов. (Опять же, где тут «отставание»?)
Царь переехал в Петергоф, на балконе стоял телескоп, направленный на вражеский флот. Но англичане с французами прорываться не рискнули. Четыре месяца бесцельно дымили трубами в Финском заливе. Неприятельским адмиралам требовалось обозначить хоть какие-то победы – сама королева провожала! Однако на второй по значению порт Ревель напасть не осмелились – узнали, что и там изготовились к встрече. Искали добычу полегче, и в августе обрушились на Аландские острова, на недостроенную крепость Бомарсунд. Высадили 12 тыс. морской пехоты, открыли адскую бомбардировку. Тем не менее 2 тыс. солдат полковника Бодиско отбивались 4 дня. Развалины крепости все же взяли, защитников пленили. Четыре раза пытались высадить десанты в Финляндии. Всюду их отразили, и эскадры ушли восвояси.
5 британских и французских кораблей со 112 орудиями и 540 десантниками нагрянули и в Белое море. Дания и здесь подыграла врагам, предоставила в Норвегии базы для снабжения углем. Они принялись разбойничать, захватывали торговые и рыболовецкие суда. Но в устье Северной Двины к Архангельску их не пустили. Русские канонерские лодки и орудия на берегу побили и прогнали баркасы, промерявшие фарватер. Эскадра напала на Соловецкий монастырь.
Оборону возглавил архимандрит Александр (Павлович) – гарнизон составили 53 инвалида тюремной охраны, работники, поселенцы, 20 заключенных. Англичане и французы выпустили 1800 бомб и ядер. Защитников уберег Бог, потерь не было. А из двух старых пушек времен Петра I подбили пароходофрегат «Миранда». Высаживать десант враги не осмелились, ушли. Отыгрались, разграбив беззащитные прибрежные села и Крестовский монастырь. Но в селе Пушлахта 23 помора с кремневыми ружьями побили полтора десятка десантников. И в захудалой Коле 70 солдат инвалидной команды с жителями прогнали высаженный десант ружейным огнем – за это Колу сожгли бомбардировкой. Набезобразничав по берегам, осенью эскадра удалилась.
А в Америке между Российско-американской компанией («полугосударственной», но юридически частной), владевшей Аляской, и такой же английской компанией Гудзонова залива, осваивавшей Канаду, еще в 1839 г. был подписан договор о нейтралитете даже на случай войны. Но британское правительство очень долго его мурыжило. Возникли нешуточные опасения, что англичане попытаются захватить наши американские владения, а защитить их было трудно. Воспользовались США, предложили купить Аляску, однако царь это отверг. Вместо реальной продажи в руководстве Российско-американской компании придумали договор о фиктивной продаже сроком на 3 года за 7 млн 600 тыс. долларов – применить этот план следовало лишь при крайней необходимости [33, с. 164].
Но за 5 дней до войны, 22 марта 1854 г., правительство Англии все же утвердило договор о нейтралитете. Боялось, как бы русские не подняли против английских соседей алеутов, эскимосов, индейцев, что обернулось бы погромом факторий и большими убытками. Опасалось и втягивания в войну США. Правда, при утверждении Лондон урезал рамки договора. Нейтралитет распространялся только на американские владения – хотя под флагом Русско-американской компании существовали базы и селения на берегах Охотского моря, Сахалине, Курильских островах. Не признавался нейтралитет и на море. С началом войны англичане на Тихом океане развернули охоту за русскими кораблями.
Муравьев разослал приказ всем судам следовать в бухту Де Кастри. Их укрывали в устье Амура – открытия Невельского царь держал в строжайшем секрете, враги о них не знали. А проекты освоения Амура война подтолкнула. Китаю засылали предложения о пересмотре границ – он предпочел тянуть, не отвечал. Но Муравьев решил действовать «явочным порядком». Весной 1854 г. в казачьей станице Усть-Стрелочной у слияния Шилки и Аргуни, где было всего 25 домов, собралось несколько Сибирских линейных батальонов, строили плоты, баржи, доставили даже пароход «Аргунь». Первый сплав по Амуру Муравьев возглавил сам. Взял с собой часть солдат, полторы сотни казаков. Разведывали реку, садились на мели. Но время не ждало: на Николаевском посту в устье Амура было всего 30 солдат и 2 пушки. Баржи и плоты преодолели 2800 км, доставили пополнения, артиллерию. Заложили город Мариинск, рядом казачью станицу Кизи.
А англичане главной задачей на Дальнем Востоке видели захват Петропавловска-Камчатского. Его уже начали укреплять, но у губернатора, генерал-майора Завойко, было всего 11 орудий и 230 солдат. Формировали команды из местных казаков, охотников-ительменов. Случайно в Петропавловск зашел фрегат «Аврора» с больной командой. Но и Муравьев успел прислать военный транспорт «Двина» с подмогой. Число защитников увеличилось до 988, орудий – до 67. На «Авроре» и «Двине» сняли пушки с одного борта, установили на батареях.
17 августа появилась эскадра адмирала Прайса – 3 английских и 3 французских корабля с десантными частями. И в артиллерии, и в живой силе враги превосходили втрое. Сражение кипело 5 дней. Под ураганным огнем гарнизон отбил два массированных штурма. Погиб Прайс – по английской версии, застрелился или неосторожно чистил пистолет. Но, скорее всего, его сразил русский осколок при метком попадании в корабль. Элитный Гибралтарский полк был уничтожен, его штыковой контратакой скинули с 40-метрового обрыва. Вражеские корабли получили серьезные повреждения и отчалили не солоно хлебавши. С рапортом о победе помчался лейтенант Максутов. Через всю Сибирь в Петербург он добрался в рекордные сроки, в ноябре. Его сразу принял царь. Офицер привез трофейное знамя Гибралтарского полка, а рапорт Завойко Николай I повелел опубликовать в газетах. Это была пощечина врагам на их хвастливые реляции, и английская пресса взвыла: «Всех вод Тихого океана недостаточно, чтобы смыть позор британского флага». Как видим, «крепостническая» Россия очень успешно противостояла «передовому» Западу.