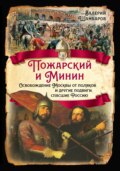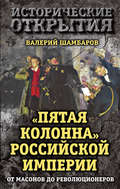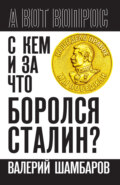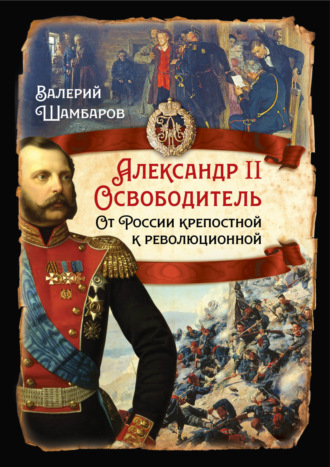
Валерий Шамбаров
Александр II Освободитель. От России крепостной к революционной
Глава 9. Наследник принимает командование

Погребение Николая I
На Кавказе неприятели наметили наступать на соединение с Шамилем. Для этого тремя группировками сосредоточилась турецкая армия Куршид-паши (французского генерала Гюйона). С Шамилем поддерживали связь, султан произвел его в «генералиссимусы черкесской и грузинской армии». Правда, имам назвал титул «пустым звуком» и султанским вассалом быть не желал. Но решил прорваться навстречу союзникам. Собрав 15 тыс. горцев, в июне 1854 г. вторгся в Грузию. Однако для количества он поднял разношерстное воинство со всего Кавказа. Награбив богатую добычу, оно стремилось по домам. А царское командование перебрасывало наперерез войска, погнало мюридов обратно в горы.
Впочем, Шамилю оказалось уже и не к кому прорываться. Русская армия в Закавказье значительно уступала туркам и тем не менее, сама перешла во встречное наступление. Фланговые неприятельские корпуса разгромили отряды Андроникова и Врангеля (каждый был втрое меньше противника), взяли крепость Баязет. А центральному 18-тысячному корпусу Бебутова Гюйон приготовил ловушку. У селения Кюрюк-Дара его окружили 60 тыс. турок, навалились с разных сторон. Сражение гремело 8 часов, и русские… одержали полную победу. Потеряв 10 тыс. убитых, раненых и пленных, Гюйон бежал в крепость Карс. Для развития успехов сил у царских генералов не хватало. Но вражеские планы прорваться на Кавказ они похоронили.
А на Дунае предполагалось вторжение в Россию. Соединились французская, британская, турецкая армии. Но Австрия, урвав под контроль Валахию и Молдавию, трусила вступать в войну, и территория Дунайских княжеств получилась нейтральной. Для наступления осталась только Добруджа – полоса между нижним течением Дуная и Черным морем (в то время она относилась не к Валахии, а к Болгарии). По этой полосе двинулись французы. Не тут-то было, их потрепал отряд генерала Ушакова. Выводы разведки были неутешительные. Для наступления пришлось бы форсировать Дунай, брать Измаил – а на другом берегу стояла армия Горчакова. Переправу мог бы обеспечить многочисленный флот, но… устье реки оказалось перекрыто морскими минами, артиллерией и ракетными установками. С моря не сунешься.
Добруджа обернулась для неприятелей тупиком. Выход предложил британский главнокомандующий Раглан. Плюнуть на прежние планы. Имея огромный флот, быстро перекинуть войска в Крым. Для русских это станет неожиданным, у них в Крыму сил было мало. А пешими маршами с Дуная еще когда дойдут! Англичане одной из главных задач как раз и видели уничтожение Севастополя и Черноморского флота. Взвинченное «общественное мнение» Запада давно жаждало побед, которых не было, – и французы согласились. А мнения турок никто не спрашивал. В Варне загрузилась армада из 350 судов.
Оборону Крыма возглавлял морской министр князь Меншиков. Он уже начал укреплять Севастополь с суши, предвидел высадку. Но рассчитывал, что осень на Черном море – время штормов, и враги не нападут до весны. Вот тут он ошибся. 1 сентября в Евпаторию прибыл десант, сбил русское охранение. А на следующий день выплеснулась вся масса англичан и французов: 60 тыс. солдат, 134 полевых и 72 осадных орудия. Меншиков собирал войска, разбросанные по полуострову: 33 тыс. штыков и сабель, 84 орудия. И части-то были второсортные, оставленные для тылового охранения.
Контратаковать Меншиков отказался – высадку прикрывал весь флот. На ровном, как стол, берегу у Евпатории русских расстреляли бы артиллерией. Князь выбрал позицию на речке Альма, перекрыв дорогу на Севастополь. 8 сентября на наши войска навалились вдвое превосходящие силы. Невзирая на это, наши второсортные полки отбили все атаки и на правом фланге, и в центре. Лишь на левом, приморском, вражеский флот перемешал позиции артиллерией, и французская дивизия зуавов обошла его по кромке берега. Хотя разгромить маленькую русскую армию противник не смог. Она потеряла 5700 убитых и раненых, но и неприятелей положила 3300 (может, и больше, свои потери французы и англичане очень сглаживали). А при обходе Меншиков в полном порядке отступил на север, к Бахчисараю.
В Севастополь, где оставались только моряки, он послал предложение затопить старые корабли, перекрыв вход в бухту, их орудия и экипажи поставить на бастионы. Военный совет принял это решение. Все жители вышли возводить укрепления. Бухты разделяют город на две части, Северную и Южную. В первую очередь строили оборону на Северной, откуда ждали врагов. Наверняка не успели бы. Но французы с англичанами грубо ошиблись, что город сильно укреплен. Наспех построенные и еще не вооруженные позиции Северной стороны сочли подтверждением и настроились на осаду. А для осады они уже присмотрели себе Балаклавскую и Камышовую бухты южнее Севастополя, куда могли бы причаливать их суда, подвозить припасы.
Вместо броска вперед их армия двинулась в обход, вокруг города, подарив защитникам время. Пока она обустраивала лагеря, рыла траншеи, строила батареи, в городе завершали работы. Меншиков подкрепил гарнизон, довел до 30 тыс. Только 5 октября противник открыл бомбардировку. Трое суток с осадных батарей и кораблей сыпались бомбы и ядра в надежде деморализовать защитников, вынудить к сдаче. Погиб один из руководителей обороны Корнилов, выбыло из строя около тысячи человек. Но и Севастополь отвечал огнем, враги потеряли столько же.
А после бомбардировки неприятели стали приближаться к укреплениям траншеями. Меншиков опасался штурма. К нему начали подходить войска с Дуная, и он наметил частную операцию, отвлечь противника от Севастополя. Высмотрели участок послабее под Балаклавой, где стояли турки, 13 октября его атаковали 16 тыс. пехоты и конницы. Предполагалась только демонстрация, после жаркой схватки разошлись на прежних позициях. Но задумка Меншикова не удалась. Сил у врагов было много, заставить их развернуться от Севастополя не получилось. Зато атака показала противнику его уязвимые места, их укрепляли, выдвинули на опасный фланг дополнительные контингенты.
Между тем с Дуная прибывали свежие силы, армия в Крыму достигла 100 тыс., и Меншиков задумал решительный удар. Но противник был уже настороже. Участок для наступления под Инкерманом выбрали неудобный – горы, овраги, густой кустарник. 5 ноября в тумане колонны сбились с направлений, вступали в бой по очереди. Смяли англичан, а лучшая французская дивизия зуавов врезалась во фланг. Отступили в беспорядке под ливнями картечи. Потеряли 3,5 тыс. убитых и 8 тыс. раненых, неприятели – втрое меньше. Севастополю никакой пользы сражение не принесло.
Хотя и англичане с французами в осаде крепко застряли. Еще из Болгарии они привезли холеру. От болезней умерли оба главнокомандующих, Раглан и Сен-Арно. Да и расчеты Меншикова, что осенью крупные операции в Крыму проводить нельзя, подтвердились. Буря разбила и потопила 58 неприятельских судов, погибли тысячи моряков. На потонувших транспортах находился весь груз зимней одежды и медикаментов для осадной армии. Она отчаянно мерзла, это умножало болезни.
Но сказывались и особенности самого Меншикова. Человек умный, смелый, он был капризным, избалованным циником. И вольнодумцем, масоном. Николай Мотовилов, биограф и «служка» Серафима Саровского, послал царю для воинов копию иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» – перед которой всегда молился и преставился батюшка Серафим. Николай I знал о святом, почтительно отправил икону в Севастополь. А Меншиков забросил ее в чулан. Лишь после запроса самого государя икону извлекли и поставили на Северной стороне – и ведь неприятели ее так и не взяли. А архиепископ Херсонский Иннокентий привез в Севастополь чудотворную Касперовскую икону Божьей Матери, но Меншиков даже не захотел принять его, отослал прочь гонца: «Передай архиепископу, что он напрасно беспокоил Царицу Небесную – мы и без Нея обойдемся» [34].
Причем вольнодумство сочеталось в нем с полной неприязнью технических новинок. Он боялся железных дорог и не ездил на поезде. А при обороне Крыма отказался от морских мин – иначе не потребовалось бы топить корабли на входе в бухту, да и у вражеских гаваней можно было по ночам наставить. Между тем мины успешно применялись по соседству, под Очаковом, на Дунае. 600 ракет Константинова Меншиков все же заказал. Но велел испытать их – не залпами, как полагалось, а по одной. Объявил, что они неэффективны, отправил на склад, а ракетчиков перевел в артиллерию.
А после поражения под Инкерманом он впал в пессимизм. Уже не верил в возможность удержать не только Севастополь, но и Крым. В Петербурге стало известно, что на полуостров посылают подкрепления и выгружать будут в Евпатории. Царь настаивал отбить этот город и сорвать высадку. Меншиков отреагировал лишь после понуканий, опоздал. Да и выделил всего 19 тыс. штыков и сабель, когда в Евпатории уже высадились 30 тыс. турок и французов. Генерал Хрулев попытался решить задачу внезапным налетом. Но местные татары известили врагов. Те прислали в Евпаторию флот. Атаку накрыли бешеным огнем. Но и сами кинулись преследовать, им тоже всыпали. Наш отряд потерял 168 убитых и 583 раненых. Неприятель – 105 убитых и 314 раненых.
Западная пресса раздула масштабы «грандиозной» победы – силилась приукрасить безрадостную картину, поднять настроения обывателей. Британский кабинет возглавил в это время Палмерстон, он вместе с французами выискивал любые средства, чтобы переломить ситуацию в России. Тут-то пригодился Герцен. Как раз к началу войны он получил достаточные средства, открыл в Лондоне «Вольную русскую типографию». И первой ее продукцией с 1854 г. стали воззвания к русским солдатам – изменять Родине и переходить на сторону интервентов. Особенно активно они распространялись в Польше, для этого подключили местных сепаратистов. Но подобные методы еще не сработали. Перебежчиков с листовками Герцена не зафиксировано ни одного.
Куда более успешно действовали британские и французские дипломаты. К их коалиции присоединилось Сардинское королевство, отправило в Крым 15 тыс. солдат. В Германии англичане набрали добровольческую бригаду, 4250 офицеров и солдат. Еще одну бригаду из 2200 добровольцев послала на фронт Швейцария. А Австрия уже официально вступила в союз с Англией и Францией. Об этом секрете разузнал и сообщил новый посланник в Вене Александр Горчаков, и царь писал: «Коварство Австрии превзошло все, что адская иезуитская школа когда-либо изобретала.…» [35, с. 303–308]. Впрочем, схватиться с русскими у австрийцев еще не хватало духу. Они играли в миротворцев, созвав в Вене конференцию воюющих держав.
Николай I пошел на серьезные уступки – соглашался передать Валахию, Молдавию и устье Дуная под совместный протекторат России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Хотя отнесся к конференции скептически: «Толку не ожидаю, разве турки со скуки от своих теперешних покровителей не обратятся к нам, убедясь, что их мнимые враги им более добра хотят, чем друзья» [36]. Положение России оставалось трудным, но прочным. Атаки врагов отразили на всех фронтах. Севастополь стойко держался – и царь повелел для защитников месяц службы считать за год.
Да, в Крыму случилось несколько неудач. Однако на общей обстановке они не сказывались – даже неудачные сражения изматывали неприятелей, подталкивали к снятию осады. Но Крымский театр боевых действий даже не считался главным! К концу 1854 г. у русских здесь находились 169 батальонов пехоты, 79 эскадронов кавалерии. А на Балтийском побережье стояли 230 батальонов и 118 эскадронов – ведь англичане с французами и тут могли высадиться. В Польше развернулась армия Ридигера – 144 батальона и 97 эскадронов, на Днестре – армия Горчакова, 149 батальонов и 203 эскадрона. Ждали, что войну начнет Австрия, а то и вместе с Пруссией.
Николай I допускал такой вариант, но не боялся его, твердо уповая на Бога. Ведь и в 1812 г. Россия выдержала схватку со всей Европой. Государь писал: «Мы одушевлены правотой нашего святого дела, мы обороняем свой родной край против дерзких и неблагодарных вероломных союзников. Эти чувства удваивают нашу нравственную силу» [37]. Формировались резервные корпуса, как раз и пригодились запасники, накопленные после перевода солдат на 15-летнюю службу. По примеру 1812 г. царь повелел собирать ополчение – и народ поднимался добровольно. Казаки объявили общую мобилизацию. Одно лишь Донское войско выставило 87 полков и 14 батарей.
Правой рукой императора в военных делах стал наследник. Он готовил и отправлял из Петербурга подчиненные ему части Гвардейского и Гренадерского корпусов, кого-то в Крым, а большинство в Польшу, это направление считалось более опасным. Цесаревич занялся и формированием резервов. Никто не снимал с него и задачу обороны столицы и побережья Финского залива. А царь был полон энергии, собран. Он лично составлял планы на случай вступления в войну одной Австрии, или с Пруссией, или еще и со Швецией. Распределял силы, предусматривал разные варианты. Австрийцев он ставил невысоко – считал возможным сокрушить их одним встречным ударом, но не зарываться: вышибить за Карпаты и запереть перевалы. Этими планами отец делился с Александром, рассылал их Паскевичу в Польшу и Горчакову на Дунай [36; 37, с. 683–684].
Однако 27 января 1855 г. царь простудился или подхватил грипп в легкой форме. Он продолжал работать, 7 февраля начался Великий пост, и Николай Павлович стал поститься со всей семьей. Чувствовал себя уже нормально. 9 февраля поехал в Манеж проводить батальоны, убывающие на фронт. После этого наступило ухудшение, но временное. 11 февраля Николай Павлович собирался в церковь – врачи отговорили. 15-го вернулся к работе. Принимал доклады. Получив рапорт о неудаче под Евпаторией, император по тону понял: Меншиков сломался морально. Продиктовал сыну указ о его отставке. Занимался и другими делами. А 16–17 февраля болезнь внезапно и обвально обострилась…
Сопоставление многочисленных фактов и подробностей трагедии позволяет прийти к выводу: скорее всего, Николай I был отравлен. Развернутые доказательства я привел в другой своей работе и не буду здесь повторяться [13, с. 407–415]. Но версия убийства, впоследствии затертая либералами, была очень распространена. Графиня С. Д. Толь писала: «Умер ли он своей смертью? Многие современники упорно уверяли, что он был отравлен одним из докторов, которого будто бы подкупил на это злодеяние французский император Наполеон III» [38]. Об убийстве прямо писала великая княгиня Мария Павловна – во время болезни она неотлучно дежурила возле царственного брата. Такого же мнения была фрейлина М. П. Фредерикс [39].
Заинтересованы были не только Англия с Францией, в самой России имелась сильная партия «противников войны». То есть капитулянтов, готовых любой ценой восстановить «дружбу» с вожделенным Западом. Впрочем, и «миролюбцы» были связаны с Парижем и Лондоном масонскими узами. А царь стал для них главной помехой. Исполнителем, судя по всему, стал лейб-медик Мандт, сумевший втереться к Николаю I в полное доверие. А болезнь государя, с одной стороны, дала повод к «лечению». С другой – позволила списать смерть на «естественные» причины.
В дворцовой аптеке Мандт препараты не заказывал. Ссылаясь на собственные методики, лечил неизвестными порошками, которые сам приносил в кармане [39]. А протоколы вскрытия для всех членов Царского дома сохранились – и только протокол Николая Павловича исчез [39]. Что не удивительно. Этим заведовал директор медицинского департамента Военного министерства и начальник Медико-хирургической академии Вацлав Пеликан – закадычный друг Мандта, поляк, до 1832 г. ректор Виленского университета, закрытого Николаем I как гнездо революционеров. Государь его не обидел, дал высокие должности в России. Но он с идеями «свобод» не расстался, императора ненавидел.
Мандт до последнего момента, до 21 часа 17 февраля, заверял всех, что «опасности никакой нет». Консилиум светил медицины не созывался. Наследник все же выделил в помощь для лечения отца своих лейб-медиков, Карреля и Енохина. Но они были молодыми, перед авторитетом Мандта «не смели пикнуть». И именно они подняли тревогу. В ночь на 18 февраля, когда Мандт ушел отдохнуть, известили цесаревича, что дело совсем плохо. Начальник II Отделения Его Величества канцелярии Блудов срочно разослал указания в храмы, служить молебны о здравии царя (в народе о его болезни даже не знали, ее не считали тяжелой). А дочь Блудова Антонина обратилась к Мандту – требовала, чтобы государь приобщился С в. Таин.
Лейб-медик, вероятно, понял, что дальше тянуть нельзя. В 2 часа ночи, вернувшись к императору, будто бы лишь сейчас обнаружил угрозу. Начал закидывать удочки о визите духовника, протоиерея Василия Бажанова. Николай Павлович догадался. Спросил прямо: он умирает? Шеф жандармов Дубельт сообщает, что Мандт опять начал выкручиваться. Но государь по его тону понял правду. Сказал: «Теперь я знаю, что мне делать». Сам велел позвать наследника и священника, объявил им – состояние безнадежно [40]. Свидетелей его последних часов было много, и все подтверждают: внезапное известие о скорой смерти царь принял с полнейшим самообладанием. Он исповедовался, твердым голосом прочитал перед Причастием молитву: «Верую, Господи, и исповедую…» А после Причастия сказал: «Господи, прими меня с миром». Благословил детей и внуков, с каждым поговорил отдельно. Потом велел родным удалиться.
Даже в эти последние часы он принадлежал не семье, а России. Простился с соратниками. Вызвал к себе нескольких солдат – поручил им передать прощальный привет их товарищам. Наследнику велел от его имени проститься со всей гвардией и армией, особенно с защитниками Севастополя: «Скажи им, что я и там буду молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня».
Царь сам отдал приказ заранее собрать гвардейские полки – чтобы принесли присягу сыну сразу же, как только отец испустит последний вздох. Уже под утро доложили, что прибыл курьер из Севастополя. Николай ответил: «Эти вещи меня уже не касаются. Пусть он передаст депеши моему сыну». В 8 часов духовник начал читать отходную. Страдания государя усиливались. Он говорил: «Если это начало конца, то это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать». Держал за руки супругу и сына, читал свою любимую молитву: «Ныне отпущаеши…» Около 10 часов император потерял дар речи. Но после полудня снова заговорил.
Обратился к наследнику: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил больше всего на свете. Служи России». Царь захрипел, дыхание сбивалось. Он напутствовал сына: «Держи все, держи все» – и показал рукой, что держать надо крепко. По лицу Николая Павловича пробежала судорога, голова откинулась. У присутствующих вырвался общий крик. Но государь вдруг открыл глаза, поднял их к небу – и улыбнулся. С этой улыбкой и ушел в мир иной [41]…
Протоиерей Василий Бажанов свидетельствовал, что он в своей жизни наставлял перед кончиной многих, но никогда не видел такой веры, торжествующей над приближающейся смертью [42]. Николая Павловича ставил в пример верующим и митрополит Платон Киевский: «Так умирать может истинный христианин, истинный сын Православной Церкви; он почил, держа в руке крест Христов – символ нашего спасения. Многие ли так умирают из нашей монашествующей братии? С таким ли бесстрашием встречаем смерть мы, отрекшиеся от мира и поставившие задачею отшельнической жизни встречу со смертию, как с переходом в иную, лучшую жизнь?» А сенатор К. Н. Лебедев оценивал: «14 декабря и 18 февраля – славнейшие дни в жизни этого монарха».
Александр Николаевич превратился в императора Александра II. Сенат, Синод, чиновники, полки начали приносить ему присягу. Его готовили к престолу всю жизнь – а занять его случилось так неожиданно. Сын потерял отца. Был в шоке. На собравшемся заседании Государственного совета он сквозь слезы выдавливал свое горе, повторял последние слова Николая Павловича. Рыдали и присутствующие. В отчаянии был и весь народ. Толпы хлынули к Зимнему дворцу. Выли, рыдали. Дубельт отмечал: «Плач всеобщий… Скорбь так велика, что описывать ее – дело невозможное».
Впрочем, была и другая реакция. Приближенный нового государя Дмитрий Милютин вспоминал: «Когда народ стекался на панихиды и повсюду выражалась скорбь об утрате великого Государя, с личностью которого привыкли связывать представление о величии самой России, – в то же время в известной среде людей интеллигентных и передовых радовались перемене царствования… В известных кружках речь о кончине императора Николая вызвала ликование; с бокалами в руках поздравляли друг друга с радостным событием» [43]. Революционер Шелгунов выражался еще более откровенно: «Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг “новых людей”; точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди тяжелый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать» [37, с. 693].
Да, смерть Николая Павловича чрезвычайно порадовала и внешних врагов, и поднявшую голову прослойку людей, горделиво объявлявших себя «интеллигентными», «передовыми», «новыми». Кстати, Мандту никаких официальных претензий не предъявлялось, но высший свет от него отвернулся, двери перед ним закрылись, и он предпочел исчезнуть из России. Поселился в Германии, в тихом Франкфурте-на-Одере. Был еще не стар, хвалился отменным здоровьем. Но венценосного пациента он пережил всего на 3 года. Скоропостижно скончался в 1858 г. в возрасте 58 лет. Разве не похоже, что он «слишком много знал»?