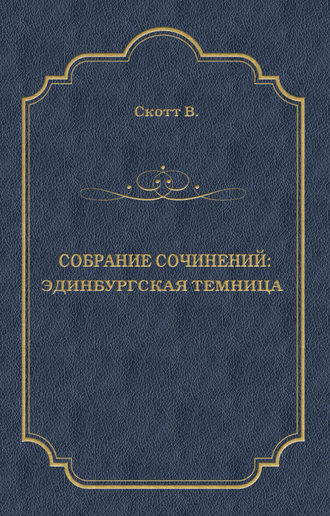
Вальтер Скотт
Эдинбургская темница
Глава X
Всем по сердцу она. Ее манеры,
Любезность и застенчивость – все в меру.
Ее веселый и задорный смех
И простодушие пленяли всех.
Крабб
Посещения лэрда снова стали обычным делом, не вызывающим опасений. Если бы влюбленный мог очаровать свою красавицу, как змея, говорят, очаровывает птичку упорным взглядом больших и глупых зеленых глаз, которым теперь иногда уже требовались очки, Дамбидайкс, несомненно, одержал бы победу. Но, как видно, искусство завораживать принадлежит к числу artes perditae[34]; и упорные взгляды лэрда, насколько мне известно, не вызывали у Джини ничего, кроме зевоты.
Между тем предмет этого поклонения понемногу утратил свежесть первой юности и приближался к так называемому среднему возрасту, который – как невежливо принято думать – наступает для слабого пола несколько ранее, чем для мужчин. Многие считали, что лэрду следовало перевести свои взоры на предмет, с которым Джини даже в лучшую свою пору не могла соперничать красотою и который теперь начал привлекать в Сент-Леонарде общее внимание.
Эффи Динс, окруженная нежными заботами сестры, выросла цветущей, прекрасной девушкой. Головка ее, изваянная с античной правильностью, утопала в густых и вьющихся каштановых кудрях, перехваченных синей шелковой лентой; осененное этими кудрями личико смеющейся Гебы сияло здоровьем, довольством и жизнерадостностью. Коричневое домотканое платье обрисовывало формы, которые – как, увы! часто бывает с шотландскими красавицами – со временем могли приобрести излишнюю полноту, но в ранней юности пленяли своими прелестными пропорциями и легкой грацией движений.
Расцветающая юная прелесть Эффи не смогла поколебать упорного постоянства лэрда Дамбидайкса. Зато едва ли кто еще не останавливал восхищенного взора на этом воплощении красоты и цветущего здоровья. Всадник придерживал усталого коня при въезде в город – цель своего путешествия – и заглядывался на нимфу, которая шла мимо него с кувшином молока на голове, так легко и грациозно ступая под своей ношей, что она, казалось, не обременяет, а лишь украшает ее. Юноши из предместья, собираясь по вечерам играть в шары, бросать молот или как-либо еще показывать свою удаль, следили за каждым движением Эффи Динс и наперерыв старались привлечь ее внимание. Даже строгие пресвитериане, единоверцы ее отца, считавшие все, что радует взор, ловушкою сатаны, невольно засматривались на красавицу – но тут же тяжко вздыхали о своей греховной слабости, а также о том, что столь прекрасное создание наравне со всеми унаследовало первородный грех и несовершенство человеческой природы. Ее прозвали Лилией Сент-Леонарда не только за редкостную красоту, но и за непорочность ее помыслов, речей и поступков.
Однако в характере Эффи Динс было нечто внушавшее серьезную тревогу не только почтенному Дэвиду Динсу, который, как легко можно себе представить, имел строгие взгляды на забавы и увлечения юности, но и более снисходительной сестре ее. У шотландцев простого звания дети обычно бывают избалованы, а отчего и до какой степени – об этом рассказал за меня и за всех будущих сочинителей одаренный автор занимательного и поучительного «Глэнберни»[35]. Эффи досталась двойная доля этой слепой и неразумной любви. Даже ее отец, при всей суровости своих принципов, не мог осуждать детские игры и забавы, а младшая дочь, дитя его старости, долго казалась ему ребенком; уже будучи взрослой девушкой, она все еще звалась крошкой Эффи и имела полную свободу резвиться, кроме воскресных дней и часов семейной молитвы. Сестра, которая заботилась о ней, как мать, не могла, разумеется, иметь над ней материнской власти, да и ту, что имела, утратила с тех пор, как Эффи подросла и стала заявлять свои права на независимость. Итак, при всей своей невинности и доброте Лилия Сент-Леонарда не лишена была самонадеянности, упрямства и вспыльчивости, отчасти врожденных, но, несомненно, усиленных воспитанием. Наилучшее понятие о нраве Эффи даст следующая вечерняя сцена в доме Динсов.
Заботливый хозяин был в коровнике, где задавал корм терпеливым животным – кормилицам семьи; надвигался летний вечер, и Джини Динс начинала тревожиться долгим отсутствием сестры и опасаться, что она не поспеет домой к возвращению отца, который в этот час, после дневных трудов, собирал семью на молитву и был бы крайне недоволен, не видя Эффи. Тревога ее была тем сильнее, что Эффи исчезала из дому уже несколько вечеров кряду, сперва ненадолго – так что отлучка ее едва была замечена, – потом на полчаса и на час, а в этот раз уже и вовсе надолго. Джини стояла в дверях, заслонив рукою глаза от лучей заходящего солнца, и, поочередно глядя во все стороны, вдоль всех дорог, ведущих к их дому, искала взглядом стройную фигуру сестры. Так называемый Королевский парк был отделен от проезжей дороги стеною с проделанной в ней калиткой. То и дело взглядывая туда, она вдруг заметила две фигуры – мужчину и женщину, – показавшиеся несколько неожиданно, словно до этого они шли в тени стены, скрываясь от взоров. Мужчина поспешно отступил за стену; женщина прошла через калитку и направилась к дому. Это была Эффи. Она подошла к сестре с той напускной веселостью, которой женщины всех сословий скрывают свое смущение; подходя, она напевала:
Над рыцарем-эльфом склонилась ветла,
Ветла серебрится, светла, как звезда.
Веселая леди к нему подошла,
Но больше уж вы не глядите туда.
– Тише, Эффи, – сказала ей сестра, – отец сейчас выйдет из коровника.
Песенка оборвалась.
– Где ты ходишь так поздно?
– Вовсе не поздно, – ответила Эффи.
– Уже пробило восемь на всех городских часах, и солнце село за холм Корсторфайн. Где ты была, говорю?
– Нигде, – ответила Эффи.
– А кто это прощался с тобой у калитки?
– Никто, – опять ответила Эффи.
– Нигде? Никто? Дай бог, Эффи, чтобы тебе незачем было скрывать, где и с кем ты была.
– А ты зачем подсматриваешь? – возразила Эффи. – Не допрашивай – не услышишь неправды. Я небось не спрашиваю, зачем этот лэрд Дамбидайкс ездит сюда и таращится, как дикий кот (только глаза у него мутные), и так изо дня в день, а мы тут мрем со скуки.
– Ты ведь знаешь, что он ездит к отцу, – ответила Джини на эту дерзость.
– А преподобный Батлер – тоже к отцу? То-то отцу по душе его латынь! – сказала Эффи, с удовольствием видя, что может отразить атаку, если перенесет сражение на территорию противника, и по-детски торжествуя победу над своей скромницей сестрой. Она лукаво и насмешливо поглядела на Джини и тихо, но многозначительно запела отрывок из старой шотландской песни:
На кладбище бедном
Я встретила лэрда.
Мне увалень глупый не сделал вреда.
Но шел мне навстречу
Наш пастор под вечер…
Но тут певица умолкла: взглянув на сестру и увидя, что у той на глаза навернулись слезы, она бросилась обнимать ее и осушать ее слезы поцелуями. Джини, хоть и была обижена и недовольна, не могла устоять перед ласками балованного ребенка, у которого и хорошие и дурные поступки были одинаково необдуманны. Возвращая сестре ее поцелуи в залог полного примирения, она все же не удержалась от нежного упрека:
– Уж если ты выучилась глупым песням, Эффи, зачем петь их про меня?
– Не буду! – сказала Эффи, все еще обнимая сестру. – Лучше бы я их не слыхала. И лучше б мы не переезжали сюда. И пусть у меня отсохнет язык, если я опять стану дразнить тебя…
– Ну, это еще невелика беда, – сказала любящая сестра. – Мне что ни говори, я на тебя не обижусь, а вот отца смотри не рассерди.
– Ни за что! – сказала Эффи. – Пусть завтра будет больше танцев и танцоров, чем звезд в зимнюю ночь, я к ним и близко-то не подойду.
– Танцы? – повторила изумленная Джини. – О Эффи, неужели ты ходишь на танцы?
Весьма возможно, что в порыве откровенности Лилия Сент-Леонарда тут же во всем призналась бы сестре и избавила меня от необходимости рассказывать ее скорбную повесть; но слово «танцы» достигло ушей старого Динса, который, обойдя вокруг дома, неожиданно появился перед дочерьми. Вряд ли слово «прелат» или даже «Папа Римский» произвело бы на него более потрясающее впечатление. Изо всех суетных развлечений самым пагубным по своим греховным последствиям он считал именно танцы, которые называл беснованием; в поощрении или даже просто дозволении этого развращающего занятия среди людей любого звания, как и в разрешении театральных представлений, он видел одно из главных проявлений вероотступничества и причин Божьего гнева. Слово «танцы», произнесенное его собственными дочерьми и под его кровлей, привело его в негодование.
– Танцы? – воскликнул он. – Танцы? Да как вы посмели, бесстыдницы, произнести этакое слово в моем доме? Знаете ли вы, кто предавался греховным танцам и плясу? Израильтяне, когда поклонялись златому тельцу в Вефиле; или еще нечестивица, которая получила за свои пляски главу святого Иоанна Крестителя{46}. Вот я вам сегодня прочту про нее, для вашего вразумления, – оно вам, как видно, требуется. Горе ей! До сих пор небось клянет тот день, когда затеяла свою пляску. Лучше бы ей было родиться безногой и побираться по дворам, как старая Бесси Бови, чем быть царской дочерью и тешить беса плясками. Не раз дивился я, как могут люди, которые хоть однажды преклоняли колена в молитве, дрыгать ногами под дуду и волынку. Слава Создателю (и спасибо достойному Питеру Уокеру, коробейнику у Бристо-порта), что в юности не дали мне плясать; не до плясок было тем, кто терпел холод и голод, кому грозили мечом и виселицей, пулей и пыткой. Глядите же у меня! Если еще хоть раз помянете пляски под всякие там волынки и скрипицы, отрекусь от вас – клянусь памятью праведного отца моего!.. Ступайте домой сию же минуту, – добавил он более мягко, видя, что дочери заплакали, особенно Эффи. – Домой, домой, мои милые, и помолимся о спасении нас от всякого соблазна, чтобы нам не впасть в грех, на радость князю тьмы.
Эти наставления, произнесенные с лучшими намерениями, были, однако, очень несвоевременны. Создав разлад в душе Эффи, они помешали ей довериться сестре. «За кого она будет меня считать, – подумала про себя Эффи, – если признаться ей, что я уже четыре раза танцевала с ним на лугу, да еще раз у Мэгги Мак-Квинс? Еще станет грозить, что расскажет отцу, и тут у нее будет полная власть надо мной. Но больше я туда не пойду. Ни за что не пойду. Вот загну листок в Библии, а это все равно что клятва»[36]. И она была верна своей клятве целую неделю, только все это время дулась и сердилась, чего раньше не бывало, разве когда ей перечили.
Все это сильно тревожило любящую и благоразумную Джини, тем более что она, жалея сестру, не решалась сообщить отцу об опасениях, которые, быть может, были неосновательны. Уважение к достойному старику не мешало ей видеть, что он самовластен и горяч; временами ей казалось, что его осуждение забав и развлечений заходит далее, чем того требуют религия и разум. Джини понимала, что Эффи, привыкшей жить по своей воле, внезапные крутые меры принесут больше вреда, чем пользы, и что своенравная девушка будет искать в чрезмерной суровости отцовских правил оправдание для дальнейшего ослушания. В высших сословиях самая легкомысленная девица все же ограничена рамками светских приличий и находится под надзором мамаши или дуэньи; тогда как сельская девушка, среди тяжкого труда урывающая минуту для веселья, никем и ничем не охраняется, – вот отчего забавы могут стать для нее опасны. Джини видела все это и сильно огорчалась, но одно обстоятельство на время ее успокоило.
Знакомая читателю миссис Сэдлтри доводилась Динсу дальней родственницей; это была женщина примерной жизни и строгих правил, к тому же состоятельная, так что семьи иногда виделись. Года за полтора до начала нашей повести этой почтенной матроне понадобилась служанка или, вернее, помощница в мастерской.
– Мужа не заставишь сидеть в мастерской, – сказала она, – ему бы только по судам таскаться. А каково одной ворочать кожи да торговать седлами? Вот я и вспомнила про Эффи – самая была бы подходящая помощница.
Предложение это пришлось по душе старому Дэвиду – оно сулило Эффи жалованье и харчи, а кроме того, надзор миссис Сэдлтри, строгой пресвитерианки, которая к тому же жила поблизости от Толбутской церкви, где еще можно было слышать утешительные проповеди тех немногих шотландских пастырей, кои не пали ниц перед Ваалом{47}, по выражению Дэвида, и не стали пособниками всеобщего вероотступничества: унии, терпимости, патроната и эрастианской присяги, навязанных церкви после революции{48} и особенно в царствование «этой женщины» (так называл он королеву Анну), последней из злополучного рода Стюартов{49}. Уверившись в ортодоксальности религиозных наставлений, которые предстояло слышать его дочери, старик позабыл о других соблазнах, ожидавших юную, прекрасную и своенравную девушку среди шумного и развращенного города. Он был так далек мыслями от этого рода соблазнов и испытывал перед ними такой ужас, что скорее догадался бы предостеречь Эффи от убийства. Одно только ему не нравилось: что ей придется жить под одной кровлей с Бартолайном Сэдлтри и его светской премудростью; не подозревая в нем осла, каким тот в действительности был, Дэвид приписывал ему всю юридическую ученость, на которую тот претендовал, но отнюдь не одобрял ее. Адвокаты, в особенности те из них, кто заседал в генеральном собрании церкви{50}, одними из первых содействовали патронату, отречению и всему тому, что, по мнению Дэвида Динса, было покушением на свободы церкви и «разбивало резной алтарь святилища». Дэвид столь усердно и многократно предостерегал дочь от мирской премудрости Сэдлтри, что почти не успел коснуться опасностей, которые таят в себе вечеринки и танцы с мужчинами, – а ведь к этому девушки в возрасте Эффи куда более склонны, нежели к религиозной ереси.
Джини проводила сестру из дому со смешанными чувствами сожаления, опасений и надежд. Она меньше полагалась на благоразумие Эффи, чем их отец, ибо знала ее ближе и лучше понимала ее склонности и ожидающие ее соблазны. С другой стороны, миссис Сэдлтри была женщиной умной и проницательной, которая могла иметь на Эффи влияние и вместе с тем не стала бы злоупотреблять своей хозяйской властью. Отъезд в Эдинбург мог оборвать некоторые нежелательные знакомства, которые, как подозревала Джини, завелись у ее сестры в предместье. В общем, она была склонна радоваться отъезду Эффи из Сент-Леонарда и лишь в минуту первого в их жизни расставания ощутила всю силу своей любви к ней. Осыпая Эффи поцелуями и держа ее крепко за руки, Джини умоляла ее быть осторожной. Эффи слушала ее, не подымая длинных темных ресниц, из-под которых градом катились слезы. Когда сестра кончила, она зарыдала еще сильнее, расцеловала ее, обещая помнить все ее добрые советы, и с этим они расстались.
В первые недели Эффи более чем оправдала надежды своей родственницы. Со временем, однако, рвение ее к работе заметно ослабело. Как сказал уже цитированный нами поэт, тонко изображавший нравы:
Там было что-то. Что? Боюсь, что даже
И самый мудрый этого не скажет.
Какие-то намеки, слухи, сплетни
Ползли, как тучи, день скрывая летний.
Миссис Сэдлтри не могло нравиться, что Эффи нередко мешкала, когда ее посылали с поручениями, и обнаруживала раздражение, если ей за это выговаривали. Однако она добродушно оправдывала Эффи, говоря, что первое вполне понятно, если девушка впервые попала в большой город, где все ей в диковину, а второе естественно для балованного ребенка, впервые вынужденного подчиняться. Покорность и терпение не даются сразу. Ведь и Холируд не в один день строился. Придет время – все обойдется.
Действительно, добрая женщина оказалась, по-видимому, права. Не прошло нескольких месяцев, как Эффи свыклась со своими обязанностями, хотя выполняла их уже без той беззаботной веселости, которая вначале так привлекала заказчиков. Хозяйка иногда заставала ее в слезах, но эти знаки тайного горя девушка всякий раз пыталась скрыть. Щеки ее бледнели, поступь становилась тяжелой. Эти перемены не укрылись бы от женского глаза миссис Сэдлтри, но тут она сама захворала и почти не выходила из спальни. Эффи стала тосковать все сильнее. Ей часто не удавалось подавить истерические рыдания; прислуживая в мастерской, она бывала так рассеянна и делала столько промахов, что Бартолайн Сэдлтри, которого болезнь жены вынудила заняться своей мастерской в ущерб более серьезным занятиям юриспруденцией, потерял терпение и объявил на своей судебной латыни, с полным пренебрежением к грамматике, что девушку следует подвергнуть судебной экспертизе и объявить fatuus, furiosus и naturaliter idiota[37]. Соседи и слуги со злорадным любопытством или обидной жалостью стали замечать обезображенную талию, небрежный костюм и бледное лицо некогда прекрасной и все еще привлекательной девушки. Но она не доверялась никому, отвечая на шутливые намеки дерзостями, а на серьезные увещевания угрюмым запирательством или потоками слез.
Когда миссис Сэдлтри, оправившись от болезни, должна была снова принять бразды правления, Эффи Динс, словно боясь ее расспросов, отпросилась на неделю-другую домой, ссылаясь на недомогание и желая, как она сказала, отдохнуть на свежем воздухе. Зоркий, как рысь (или считавший себя таковым), во всех тонкостях судопроизводства, Бартолайн был в житейских делах недогадливее любого голландского профессора математики. Он отпустил Эффи, ничего не подозревая и ни о чем не спрашивая.
Впоследствии оказалось, что Эффи явилась в Сент-Леонард лишь спустя неделю после того, как оставила дом своих хозяев. Когда она предстала перед сестрой, это была лишь тень той веселой красавицы, которая впервые покинула отчий дом немногим более года назад. Под предлогом болезни хозяйки Эффи последние месяцы почти неотлучно провела в полутемной мастерской, а Джини, поглощенная хозяйственными заботами, редко могла улучить время, чтобы сходить в город и ненадолго навестить сестру. Таким образом, сестры несколько месяцев почти не видались, а толки и сплетни не доходили до обитателей уединенного домика в Сент-Леонарде. Ужаснувшись при виде сестры, Джини приступила к ней с расспросами, но добилась от несчастной молодой женщины лишь самых бессвязных ответов, а под конец – истерического припадка. Убедившись в несчастье своей сестры, Джини оказалась перед ужасным выбором: сообщить отцу о ее бесчестии или попытаться скрыть его. На все вопросы об имени и звании соблазнителя и о судьбе рожденного ею младенца Эффи хранила гробовое молчание и, казалось, готовилась унести с собою в гроб свою тайну. Каждый вопрос вызывал у нее новый приступ рыданий. Сестра ее в полном отчаянии готовилась уже обратиться к миссис Сэдлтри за советом, а быть может, и за некоторыми разъяснениями, когда их постиг новый сокрушительный удар.
Дэвид Динс был встревожен болезненным состоянием, в каком его дочь вернулась под родительский кров, но Джини удалось отвлечь его внимание и предотвратить чересчур подробные расспросы. Поэтому несчастный старик был словно поражен громом, когда однажды в полдень, одновременно с обычным посетителем – Дамбидайксом, к нему нагрянули другие, нежданные и страшные гости. Это были полицейские с предписанием взять под стражу Юфимию – или Эффи – Динс, по обвинению в детоубийстве. Нежданный удар сразил старика, которого не сломила в свое время тирания военных и гражданских властей со всем арсеналом мечей и пушек, виселиц и пыток. Он без чувств повалился на пол, подле своего очага. Полицейские поспешили воспользоваться его беспамятством и сократить ужасную сцену. Несчастную арестованную подняли с постели и посадили в карету, взятую для этой цели. Прежде чем Джини успела привести отца в чувство, стук отъезжающей кареты вернул ее к мысли о несчастной сестре. С воплем кинулась она во двор; но соседки, сбежавшиеся при появлении кареты, столь необычном в этом уединенном уголке, почти силой увели ее домой. Динсы были всеми уважаемы и любимы; несчастье их вызвало общее сочувствие, и домик их огласился плачем и причитаниями. Даже Дамбидайкс пробудился от обычной апатии и, сунув руку в карман, заговорил:
– Эй, Джини, Джини, не горюй! Дело, конечно, плохо, но деньги во всякой беде помогают. – С этими словами он вытащил кошелек.
Старик тем временем приподнялся, растерянно огляделся, словно ища кого-то, и, видимо, осознал свое несчастье.
– Где, – вскричал он громовым голосом, – где гнусная блудница, опозорившая честного отца? Где та, которой нет места среди нас? Где та, что осквернила себя грехами и прокралась к нам, словно дух тьмы? Где она, Джини? Приведи ее сюда, я уничтожу ее словом и взглядом!
Все кинулись к нему, каждый со своим утешением: лэрд – с кошельком, Джини – со жжеными перьями и нюхательным спиртом, соседки – с увещеваниями:
– Ах, мистер Динс, ах, сосед, какое тяжкое испытание! Но уповайте на Господа, сосед, уповайте на милость Его!
– Так я и делаю, соседи. Благодарение Богу, я еще могу искать в Нем прибежища, даже потерявши всю свою радость на земле… Но быть отцом распутницы, отверженной, убийцы, кровавой Сепфоры!.. То-то возликуют нечестивые! Прелатисты, вольнодумцы, разбойники, обагренные кровью своих жертв, – все будут торжествовать надо мною, все скажут, что и мы не лучше их! Скорблю о несчастной падшей дочери – ведь это дитя моей старости, – но еще более скорблю о великом соблазне для христиан…
– Дэвид, да неужто и деньгами не помочь делу? – вопросил лэрд, снова протягивая кошелек, туго набитый гинеями.
– Дамбидайкс! – сказал старик. – Если б надо было отдать все мое имущество, чтобы спасти ее от сетей диавола, я ушел бы из дому бос и наг… Я жил бы подаянием во имя Господне и был бы счастлив… Но если она виновна и ей нужен хотя бы единый грош, чтобы откупиться от заслуженной кары, – на эту сделку Дэвид Динс никогда не пойдет! Нет! Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, жизнь за жизнь – таков закон у людей и у Бога. Оставьте меня, соседи, такое испытание подобает нести в уединении и молитве.
Джини, успевшая несколько опомниться, присоединилась к этой просьбе. Утром следующего дня отец и дочь все еще были в глубокой печали, но отец нашел опору в суровом сознании религиозного долга, а дочь подавляла свои чувства ради него, боясь бередить его раны. Так застаем мы несчастную семью наутро после казни Портеуса.







