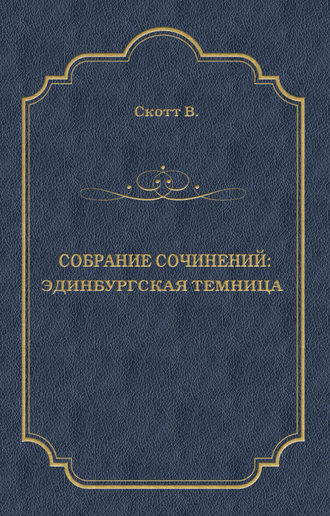
Вальтер Скотт
Эдинбургская темница
Посвятив всю свою жизнь отстаиванию гонимой истинной веры, честный Дэвид и теперь ринулся в этот спор с обычной своей горячностью. Но упоминание о суде вернуло его к мысли о несчастной дочери; пламенная речь его оборвалась на полуслове; он прижал ладони ко лбу и умолк.
Сэдлтри был тронут, но все же воспользовался внезапно воцарившимся молчанием, чтобы, в свою очередь, произнести речь.
– Что и говорить, сосед, – сказал он, – плохо иметь дело с судами, если только не слушаешь разбирательство как специалист, для собственного совершенствования. Так вот, насчет несчастья с Эффи… Вы, должно быть, уже видели обвинение? – Он вытащил из кармана пачку бумаг. – Нет, не то… Тут у меня жалоба Мунго Марспорта на капитана Лэкленда о том, что означенный капитан вторгся на его, Марспорта, землю с соколами, гончими, борзыми, сетями, ружьями, самострелами, пищалями и иными приспособлениями для истребления дичи, как-то: оленей, косуль, рябчиков, тетеревов, куропаток, цапель и прочего; причем ответчик, на основании статута шестьсот двадцать первого, не имеет права охотиться, если не владеет хотя бы одной бороздою земли. Однако, говорит защита, за неимением точного определения того, что есть «борозда земли», иск должен быть отведен. Обвинение же (оно подписано мистером Кроссмайлуфом, но составлял его мистер Юнглэд) утверждает, что это не может in hoc statu[42] служить оправданием, ибо у ответчика вовсе нет земли. Пусть «борозда земли», – тут Сэдлтри принялся читать свою бумагу, – равняется, скажем, всего лишь одной девятнадцатой части гусиного выпаса (нет, это все-таки мистер Кроссмайлуф, я узнаю его слог!)… гусиного выпаса, ответчику от этого не легче – ведь у него нет и горсти земли. На это защитник Лэкленда возражает, что nihil interest de possessione[43], что истец должен подвести дело под известную статью (вот на это советую вам обратить внимание, сосед) и показать formaliter et specialiter[44], а не только generaliter[45], на каком основании за ответчиком не признается право охоты. Пусть сперва скажут, что есть «борозда земли», а уж тогда я скажу, владею я таким участком или нет. Должен же истец понимать свою собственную жалобу, и на какой статье закона он может ее основывать. Скажем: Титиус подает иск на Мевиуса о возвращении одолженной этому последнему вороной лошади. Такой иск, конечно, будет рассмотрен. А вот если Титиус предъявит иск за красную или малиновую лошадь, ему придется сперва доказать, что такое животное существует in rerum nature[46]. Никого нельзя заставить опровергать чепуху, то есть такие обвинения, которых нельзя ни понять, ни объяснить (вот тут он не прав: чем непонятнее составлен иск, тем лучше). Таким образом, определение прав ответчика через никому не известную и не понятную меру земельной площади равносильно тому, что кто-либо подвергается наказанию за то, что охотился с соколами или собаками и при этом надел синие панталоны, но не… Однако я утомил вас, мистер Динс. Перейдем к вашему делу, хотя надо сказать, что этот самый иск Марспорта к Лэкленду тоже наделал немало шума. Ну-с, так вот обвинение против Эффи: «Считать признанным и бесспорным (это так всегда для начала говорится), что по законам нашей страны, равно как и других просвещенных стран, убийство кого бы то ни было, в особенности же – младенца, почитается тяжким преступлением и подлежит суровому наказанию. С каковой целью вторая сессия первого парламента их величеств короля Вильгельма и королевы Марии особым законом постановила, чтобы всякая женщина, которая скроет свою беременность и не сумеет доказать, что, собираясь рожать, призвала кого-либо на помощь, а также не сможет предъявить ребенка живым, считалась виновной в убийстве упомянутого ребенка и, по доказательстве и признании факта сокрытия беременности, подлежала наказанию по всей строгости закона; вследствие чего Эффи, она же Юфимия, Динс…»
– Довольно, – сказал Динс, подымая голову. – Лучше бы уж вы всадили мне нож в сердце!
– Как хотите, сосед, – сказал Сэдлтри. – Я думал, вам будет спокойнее все знать. Но вот вопрос: что будем делать?
– Ничего, – твердо ответил Динс. – Нести ниспосланное нам испытание. О, если бы Господь смилостивился и прибрал меня прежде, чем этот позор пал на мой дом! Но да свершится воля Его! Больше мне сказать нечего.
– Но вы все-таки наймете защитника бедняжке? – спросил Сэдлтри. – Без этого нельзя.
– Будь еще меж ними благочестивый человек, – сказал Динс. – А то сплошь стяжатели, вольнодумцы, эрастианцы, арминианцы – знаю я их!
– Полноте, сосед! Не так страшен черт, как его малюют, – сказал Сэдлтри. – Есть и среди адвокатов люди почтенные, то есть не хуже других, и благочестивые на свой лад.
– Вот именно, что на свой лад, – ответил Динс. – А какой их лад? Безбожники они, вот что! Их дело – пускать людям пыль в глаза, да трещать, да звонить, да учиться красноречию у язычников-римлян да у каноников-папистов. Взять хоть эту чепуху, что вы мне прочли; неужто нельзя этих несчастных ответчиков, раз уж они попали в руки адвокатов, называть христианскими именами? Нет, надо было назвать их в честь проклятого Тита, который сжег храм Господен, и еще каких-то язычников.
– Да не Тит, – прервал Сэдлтри, – а Титиус. Зачем же Тит? Мистер Кроссмайлуф тоже недолюбливает Тита и латынь. Так как же все-таки насчет адвоката? Хотите, я поговорю с мистером Кроссмайлуфом? Он примерный пресвитерианин и к тому же церковный староста.
– Отъявленный эрастианец, – ответил Динс. – По уши погряз в мирской суете. Вот такие-то и помешали торжеству правого дела.
– Ну а старый лэрд Кафэбаут? – сказал Сэдлтри. – Он вам вмиг распутает самое трудное дело.
– Этот изменник? – сказал Динс. – В тысяча семьсот пятнадцатом году он уже был готов примкнуть к горцам{63} и только ждал, чтоб они переправились через Ферт.
– Ну, тогда Арнистон. Большой умница! – сказал Бартолайн, заранее торжествуя.
– Тоже хорош! Навез себе папистских медалек от еретички, герцогини Гордон.
– Надо ж, однако, кого-то выбрать. Что вы скажете о Китлпунте?
– Арминианец.
– Ну а Вудсеттер?
– А этот кокцеянец{64}.
– А старый Уилливау?
– Этот ни то ни се.
– А молодой Неммо?
– А этот вовсе ничто.
– На вас не угодишь, сосед, – сказал Сэдлтри. – Я перебрал самых лучших; теперь выбирайте сами. А то можно и нескольких – две головы лучше одной. Может, возьмем младшего Мак-Энни? Уж то-то красноречив! Не хуже своего дядюшки.
– И слышать не хочу! – гневно вскричал суровый пресвитерианин. – Не его ли руки обагрены кровью мучеников? Не этот ли самый дядюшка так и сошел в могилу с прозвищем Кровавый Мак-Энни? И будет известен под этим прозвищем, покуда жив на земле хоть один шотландец. Да если бы жизнь моего несчастного ребенка, и Джини, и моя в придачу, и всех людей зависела от этого слуги диавола – и то Дэвид Динс не стал бы иметь с ним дела!
Последние слова, сказанные громко и возбужденно, были услышаны Батлером и Джини, которые поспешили вернуться в дом. Они застали бедного старика в исступлении от горя и от гнева, вызванного предложениями Сэдлтри; щеки его пылали, он сжимал кулаки и возвышал голос, но слезы в глазах и дрожь в голосе показывали, что он не в силах совладать со своим горем. Батлер, опасаясь следствий волнения для дряхлого, изнуренного тела, стал умолять его быть спокойным и терпеливым.
– Это я-то нетерпелив? – сурово отозвался старик. – Можно ли быть терпеливее в наше злосчастное время? Я не позволю ни еретикам, ни детям их, ни внукам учить меня на старости лет, как мне нести мой крест.
– Но ведь тут дело мирское, – сказал Батлер, не обижаясь на этот выпад против его деда. – Приглашая врача к больному, мы не спрашиваем, во что он верует.
– Не спрашиваем? – сказал Динс. – А я бы спросил. И если бы оказалось, что он не отличает правых ересей от левых, я не принял бы ни капли его лекарства.
Аналогия – опасная вещь. Батлер попробовал провести ее и потерпел неудачу, но, как доблестный солдат, у которого ружье дало осечку, не отступил, а перешел в штыки:
– Слишком узкое толкование, сэр. Солнце равно сияет для праведных и неправедных, и в жизни им неизбежно приходится общаться; быть может, именно для того, чтобы грешники могли быть обращены на путь истинный, а праведным это общение было бы испытанием.
– Ты еще молод и глуп, Рубен, – сказал Динс. – Можно ли прикоснуться к дегтю и не замараться? А как же защитники ковенанта? Они и слушать не хотели священника, будь он семи пядей во лбу, если он не обличал ересей. Не нужен мне адвокат, если он не принадлежит к потерпевшим за нашу возлюбленную церковь, пусть их осталось всего горсточка!
С этими словами, словно утомленный спорами и самим присутствием посторонних, старик поднялся и, простившись с ними движением руки, заперся в каморке, служившей ему спальней.
– Он губит дочь своим безумством, – сказал Сэдлтри Батлеру. – Где ж он найдет адвоката-камеронца? И где это слыхано, чтобы адвокат потерпел за веру? Так неужели же Эффи должна из-за этого погибать?..
В это время к дому подъехал Дамбидайкс; сойдя со своего пони, он накинул уздечку на крюк и уселся на обычном своем месте. Глаза его с необычным для них оживлением следили за собеседниками, пока, из последних слов Сэдлтри, он не уловил печального смысла всего сказанного. Он поднялся с места, медленно проковылял по комнате и, приблизившись к Сэдлтри, спросил с тревогой:
– Неужто и серебро им не поможет, мистер Сэдлтри?
– Серебро, пожалуй, помогло бы, – сказал Сэдлтри нахмурясь. – Да где его взять? Мистер Динс ничего не хочет делать, а моя жена, хоть она им родня и не прочь была бы помочь, не может за все платить одна, singuli in solidum. Если бы еще кто-нибудь вошел в долю, мы бы похлопотали. Если б еще кто-нибудь… Как же можно без защитника? Все берут защитника, что бы там ни говорил этот старый упрямец.
– Я… я, пожалуй, дам, – сказал Дамбидайкс, натужась, – фунтов двадцать. – И он умолк, пораженный собственной решимостью и неслыханной щедростью.
– Воздай вам Господь, лэрд! – сказала с благодарностью Джини.
– Так и быть, округлим до тридцати, – сказал Дамбидайкс и, застыдившись, отвернулся.
– Этого хватит за глаза, – сказал Сэдлтри, потирая руки. – А уж я присмотрю, чтобы деньги были потрачены с толком. Если взяться умеючи, можно и немного дать, а адвокат постарается. Посулить ему, например, еще два-три выгодных дела – он и не запросит. И что уж им так дорожиться? Ведь берут за болтовню – а много ли она им стоит? Это вам не шорная лавка. Мы вот на одни только дубленые кожи не напасемся денег.
– Не могу ли я быть чем-нибудь полезен? – спросил Батлер. – Имущества у меня – увы! – один черный сюртук. Но я молод и многим обязан этой семье. Неужели для меня не найдется дела?
– Вы нам поможете найти свидетелей, – сказал Сэдлтри. – Если бы можно было доказать, что Эффи хоть кому-нибудь сообщила о своей беременности, она была бы спасена, – это мне сказал сам Кроссмайлуф. От защиты, говорит, не потребуется положительных – вот только не упомню, положительных или отрицательных, да это не важно… Словом, обвинение будет считаться недоказанным, если защита докажет, что оно недоказуемо. Вот оно как! А иначе никак нельзя.
– Но самое рождение ребенка? – сказал Батлер. – Ведь и это суд должен доказать.
Сэдлтри помедлил, а лицо Дамбидайкса, которое он тревожно поворачивал то к одному собеседнику, то к другому, приняло торжествующее выражение.
– Да, конечно, – неохотно вымолвил Сэдлтри, – это тоже требует доказательства даже для предварительного постановления суда. Только на этот раз дело уже сделано: ведь она сама во всем призналась.
– Неужели в убийстве? – с воплем вырвалось у Джини.
– Этого я не говорил, – ответил Бартолайн. – Она призналась только, что родила.
– Где же тогда ребенок? – спросила Джини. – Я от нее ничего не добилась, кроме горьких слез.
– Она показала, что ребенка унесла женщина, которая приютила ее на время родов и принимала у нее.
– Кто же эта женщина? – спросил Батлер. – Она могла бы открыть всю правду. Кто она? Я сейчас прямо к ней.
– Эх, зачем и я не молод, – сказал Дамбидайкс, – и не так проворен и речист!
– Кто же она? – повторил нетерпеливо Батлер. – Кто бы это мог быть?
– Это знает только Эффи, – сказал Сэдлтри. – Но она отказалась ее назвать.
– Тогда я бегу к Эффи, – сказал Батлер. – Прощай, Джини. – И, подойдя к ней, добавил: – Пока я не дам тебе знать, не предпринимай никаких опрометчивых шагов. Прощай же! – И он поспешно вышел.
– Я бы тоже поехал, – сказал помещик жалобно и с ревнивой досадой. – Да ведь мой пони знает одну дорогу: из дому сюда, а отсюда – опять домой.
– Будет больше толку, – сказал Сэдлтри, выходя с ним вместе, – если вы поскорее доставите мне ваши тридцать фунтов.
– Откуда тридцать? – сказал Дамбидайкс, уже не имея перед своим взором той, которая вдохновляла его на щедрость. – Я сказал – двадцать.
– Это вы сперва сказали, – напомнил Сэдлтри. – А потом вы внесли поправку в первоначальные показания, и вышло тридцать.
– Неужели? Что-то не помню, – ответил Дамбидайкс. – Но раз сказал – отступаться не буду. – С трудом взгромоздившись на пони, он добавил: – А заметили вы, как хороши были глаза у бедной Джини, когда она плакала? Прямо как янтарь.
– Я по части женских глаз не знаток, лэрд, – сказал бесчувственный Бартолайн. – Мне бы только подальше от их языков. Впрочем, – добавил он, вспомнив о необходимости поддерживать свой престиж, – я-то свою жену держу в строгости. У меня – никаких бунтов против моей верховной власти.
Лэрд счел, что это заявление не требовало ответа. Обменявшись молчаливыми поклонами, они отправились каждый своей дорогой.
Глава XIII
Ручаюсь, что он не потонет, будь этот корабль не прочнее ореховой скорлупы…
Несмотря на бессонную ночь и на то, что он еще ничего не успел поесть, Батлер не ощущал ни усталости, ни голода. Всей душой стремясь помочь сестре Джини, он позабыл о собственных нуждах.
Он пошел очень быстро, почти бегом, как вдруг с удивлением услышал позади себя свое имя, громкое астматическое пыхтенье и конский топот. Оглянувшись, он увидел лэрда Дамбидайкса, догонявшего его во всю прыть; к счастью для лэрда, им было отчасти по пути: дорога в его поместье совпадала поначалу с кратчайшим путем в город. Батлер остановился, услышав призывы, но мысленно проклял запыхавшегося всадника, который грозил задержать его.
– Ох, ох! – простонал Дамбидайкс, поравнявшись с Батлером и удерживая пони. – До чего ж упрямая скотина! – Он нагнал Батлера как раз вовремя и не сумел бы преследовать его дальше: дороги расходились, и ни уговоры, ни понукания не побороли бы кельтского упрямства Рори Бина (так звали пони) и не заставили бы его хоть на шаг отклониться от прямого пути в стойло.
Но даже отдышавшись после галопа, непривычного и для него и для Рори, Дамбидайкс не сразу обрел дар речи. Слова застряли у него в горле, так что Батлер ждал около него минуты три. Открыв наконец рот, лэрд сперва произнес только:
– Ох-хо-хо! Славная нынче погода для уборки, а, мистер Батлер?
– Отличная, – подтвердил Батлер. – Позвольте проститься с вами, сэр.
– Куда вы? Постойте! – сказал Дамбидайкс. – Я не то хотел сказать.
– Так поторопитесь, прошу вас, и скажите, что вам угодно, – сказал Батлер. – Прошу извинить меня, но я спешу, а ведь tempus nemini[48], как гласит известная поговорка.
Дамбидайкс не знал этой поговорки и не потрудился притвориться, что знает, как сделал бы на его месте другой. Он в тот момент напрягал все силы своего ума, чтобы высказать важное соображение, и не мог отвлекаться пустяками.
– Я вот что хотел спросить, – сказал он. – Верно ли, что мистер Сэдлтри – сведущий юрист?
– Об этом я слыхал только от него самого, – сухо ответил Батлер. – Но ему лучше знать.
– Гм! – откликнулся немногословный Дамбидайкс, как бы говоря: «Я понял вас, мистер Батлер». – Когда так, – продолжал он, – лучше уж я поручу это дело своему стряпчему Нихилу Новиту – это сын старого Нихила… умом в отца.
Обнаружив таким образом больше сообразительности, чем Батлер мог от него ожидать, он вежливо притронулся к своей шляпе с позументом и ткнул Рори Бина кулаком в ребра, давая ему понять, что хозяину угодно ехать домой, – приказ, которому животное повиновалось с тем проворством, какое всегда проявляют люди и животные, когда приказ полностью совпадает с их собственными желаниями.
Батлер поспешил дальше, на мгновение ощутив чувство ревности, которое не раз рождалось в нем при виде знаков внимания, оказываемых лэрдом семье Динса. Но природное великодушие не позволило ему долго предаваться этому эгоистическому чувству. «У него есть деньги, а у меня нет, – сказал себе Батлер. – Зачем же досадовать, если он благодаря своим деньгам сделает для них то, о чем я могу только тщетно мечтать. Пусть каждый из нас сделает что может. Лишь бы она была счастлива и избавлена от горя и позора! Лишь бы найти средство предотвратить сегодняшнее ночное свидание – и я скажу «прости» всем другим мыслям, хотя бы сердце мое разорвалось при этом…»
Он еще ускорил шаг и вскоре оказался у ворот Толбута или, вернее, у входа, где прежде были ворота. Встреча с таинственным незнакомцем, поручение, данное им, волнующее объяснение с Джини и разговор со старым Динсом вытеснили из его памяти трагические события предыдущей ночи. Он не обратил внимания ни на кучки людей, которые перешептывались, но умолкали, завидя посторонних; ни на полицейские патрули и отряды солдат, рыскавшие по улицам; ни на усиленный караул перед казармами городской стражи; ни на присмиревших простолюдинов, которые, чувствуя, что находятся на подозрении, и понимая, что участникам мятежа непоздоровится, ходили угрюмые и пристыженные, словно с тяжелого похмелья, когда после буйной ночи все валится из рук и все представляется в мрачном свете.
Эти тревожные признаки ускользнули от внимания Батлера, занятого другими, более близкими ему заботами, пока он не оказался у входа в тюрьму, охранявшегося, вместо засовов, двойной цепью солдат. Окрик «Стой!», обугленные своды на месте ворот и выставленные напоказ внутренние помещения Толбута воскресили в его памяти всю богатую событиями минувшую ночь. Когда он попросил свидания с Эффи Динс, явился тот же высокий, сухопарый седой сторож, которого он видел накануне.
– Сдается мне, – ответил он на просьбу Батлера с истинно шотландской уклончивостью, – что ты еще вчера вечером просил с ней свидания.
Батлер ответил утвердительно.
– Помнится также, – продолжал привратник, – ты спрашивал, когда мы запираем ворота, и не запираем ли мы их раньше из-за Портеуса.
– Возможно, что я говорил что-нибудь подобное, – сказал Батлер. – Но как бы мне увидеть Эффи Динс?
– Не знаю, – ступай прямо, потом по лестнице, а там налево.
Старик пошел следом за Батлером со связкой ключей, в том числе и бесполезным теперь огромным ключом от наружных ворот его владений. Едва Батлер вошел в указанное ему помещение, как страж привычной рукой выбрал нужный ключ и запер дверь снаружи. Батлер сперва решил, что это лишь сила профессиональной привычки. Но когда он услышал хриплую команду «Выставить караул!» и немедленно вслед за этим – бряцание оружия часового, ставшего за дверью, он окликнул сторожа:
– Приятель! У меня важное дело к Эффи Динс. Как бы мне поскорее увидеть ее?
Ответа не было.
– Если свидания с ней не разрешены, – сказал Батлер громче, – так и скажите и выпустите меня. Fugit irrevocabile tempus[49], – прошептал он про себя.
– Если у тебя спешные дела, – ответил из-за двери человек с ключами, – надо было их делать, прежде чем ты пришел сюда. Сюда легче войти, чем выйти. Теперь не скоро удастся взломать ворота, – теперь такие пойдут строгости – ой-ой-ой! – испытаешь на собственной шкуре.
– Что это значит? – воскликнул Батлер. – Ты, верно, принял меня за другого. Я – Рубен Батлер, проповедник слова Божия.
– Это нам известно, – сказал страж.
– Раз ты знаешь меня, я вправе спросить, как всякий британский подданный, где предписание задержать меня?
– Предписание? – сказал тюремщик. – Предписание отправлено к тебе в Либбертон с двумя полицейскими. Если бы ты сидел дома, как порядочные люди, тебе бы его предъявили. А ты взял да и сам, по своей охоте, явился в тюрьму.
– Я, значит, не могу видеть Эффи Динс? – спросил Батлер. – И ты не намерен выпустить меня?
– Нет, не намерен, – угрюмо сказал старик. – Нечего хлопотать об Эффи Динс, у тебя скоро своих хлопот будет много. А насчет того, чтобы тебя выпустить, это уж как решит судья. Прощай покуда! Мне надо приглядеть, как будут навешивать новые ворота вместо тех, что вчера выломали такие вот мирные люди – вроде тебя.
Все это было крайне нелепо, но вместе с тем и жутко. Оказаться в тюрьме, хотя бы и по ложному обвинению, это нечто тягостное и пугающее, даже для людей от природы более храбрых, чем Батлер. У него не было недостатка в решимости – в той решимости, которую человек обретает в честных стараниях выполнить свой долг; но при его впечатлительности и нервности он не мог обладать тем безразличием к опасности, которое является счастливым уделом людей более крепкого здоровья и меньшей нервной чувствительности. Им овладело смутное ощущение непонятной и неотвратимой опасности. Он пытался обдумать события прошедшей ночи, надеясь отыскать объяснение и оправдание своего присутствия среди мятежников, ибо быстро догадался, что его арест вызван именно этим. Он с тревогой вспомнил, что, когда он обращался к мятежникам с уговорами или с просьбами отпустить его, беспристрастных свидетелей при этом не было. Горе Динсов, опасное свидание, предстоявшее Джини, которому он был теперь не в силах помешать, также занимали немало места в его невеселых думах. Он нетерпеливо ждал, когда наконец получит разъяснения о причинах своего ареста и потребует освобождения; но когда, просидев час в одиночестве, он был вызван к судье, его охватила дрожь, не предвещавшая ничего доброго. Из тюрьмы его вывели под охраной целого отряда солдат, с запоздалыми и ненужными демонстративными предосторожностями, которые всегда принимаются после событий, а могли бы предотвратить их.
Его ввели в Зал совета, – как называется место заседаний магистрата, – который был в то время расположен неподалеку от тюрьмы. Там, за длинным зеленым столом, за которым обычно собирался совет, сидело несколько отцов города, занятых допросом какого-то человека. «Это тот самый проповедник?» – спросил один из судей, когда ввели Батлера. Человек отвечал утвердительно. «Пусть подождет; мы сейчас кончим».
– Прикажете пока увести мистера Батлера? – спросил полицейский.
– Не надо. Пусть посидит здесь.
Батлер сел на скамью у дальней стены, вместе с одним из стражников.
Комната была большая и плохо освещенная; случайно или намеренно, строитель расположил одно из окон так, чтобы сильный свет падал на допрашиваемого, а судейские места тонули во мраке. Батлер стал внимательно рассматривать допрашиваемого, думая узнать в нем одного из мятежников прошедшей ночи. Но, хотя черты его были достаточно примечательны, он не мог вспомнить, видел ли его раньше.
Это был смуглый, уже немолодой человек. На нем не было парика, и короткие волосы были зачесаны назад. Они были курчавы и черны как смоль, но местами уже седели. Лицо у неизвестного было скорее плутоватое, чем порочное, и выражало более хитрости и лукавства, нежели следы необузданных страстей. Его живые черные глаза, острые черты, насмешливая улыбка, находчивость и наглость показывали, что это парень, как говорится, не промах. На рынке или на ярмарке вы сочли бы его за плутоватого барышника, мастера на всякие проделки; но, повстречав его на пустынной дороге, вы вряд ли испугались бы, так как на разбойника он не походил. По платью он был также похож на лошадника: оно состояло из застегнутого доверху жокейского кафтана с крупными металлическими пуговицами, синих валяных чулок, заменявших обувь, и шляпы с полями. Для полноты картины недоставало только хлыста под мышкой и шпоры на одной ноге.
– Твое имя – Джеймс Рэтклиф? – спросил судья.
– Да, с дозволения вашей милости.
– А если я не дозволю, ты тут же подыщешь себе другое?
– У меня их штук двадцать на выбор, опять-таки с дозволения вашей милости, – сказал допрашиваемый.
– Ну а сейчас ты – Джеймс Рэтклиф. Кто ты по ремеслу?
– Ремесла-то у меня, пожалуй, и нет.
– Чем занимаешься? Чем живешь? – повторил судья.
– А это вашей милости хорошо известно, – ответил допрашиваемый.
– Неважно, ты сам должен сказать, – заметил судья.
– Так прямо и сказать? Да еще кому? Вашей милости? У меня и язык-то не повернется!
– Будет тебе кривляться – отвечай!
– Ладно, – сказал допрашиваемый. – Все скажу, как на духу, недаром я надеюсь на помилование. Чем занимаюсь, спрашиваете? Это как-то даже неловко сказать, особенно здесь. Как там говорится в восьмой заповеди?
– «Не укради», – ответил судья.
– Это точно? – переспросил заключенный. – Ну, значит, мое ремесло с этой заповедью не в ладах. Я ее читал: «Укради». Большая разница, а всего ведь маленькое словечко пропущено…
– Попросту говоря, Рэтклиф, ты известный вор, – сказал судья.
– Думаю, сэр, что известен и в горной и в равнинной Шотландии, не говоря уж о Голландии и Англии, – ответил Рэтклиф с величайшим хладнокровием и бесстыдством.
– А чем думаешь кончить? – спросил судья.
– Вчера я бы сказал точно, а сегодня не знаю, – ответил заключенный.
– А если бы тебя спросили вчера, как бы ты ответил, чем думаешь кончить?
– Виселицей, – сказал Рэтклиф с тем же хладнокровием.
– Ты, однако ж, большой наглец, – сказал судья. – Отчего же сегодня ты надеешься на лучшее?
– Оттого, ваша милость, – сказал Рэтклиф, – что одно дело – сидеть в тюрьме по приговору, а другое – остаться там по своей охоте, когда ничего не стоило сбежать. Когда толпа уводила Джока Портеуса, я мог преспокойно выйти с нею вместе. Ведь не для того же я остался, ваша милость, чтобы меня повесили.
– Не знаю, для чего ты остался, – сказал судья, – а только по закону тебя полагается повесить ровно через неделю, в будущую среду.
– Нет, ваша милость, – твердо сказал Рэтклиф, – не во гнев будь сказано вашей милости. Никогда я этому не поверю, пока не увижу своими глазами. Я с законом не первый год знаком. Я с ним уже не раз дела делал. И должен сказать, что не так уж он страшен. Не бойся пса, который лает, бойся того, который кусает.
– Если ты не ждешь виселицы, хотя приговорен к ней, сколько мне известно, уже в четвертый раз, – сказал судья, – позволь полюбопытствовать: какой награды ты ждешь за то, что не сбежал вместе с другими, чего мы, по правде сказать, не ожидали?
– Помещение у вас сырое, прямо сказать – незавидное, – ответил Рэтклиф. – Но я уж как-то привык и за сходное жалованье, пожалуй, останусь.
– Жалованье? Сотню плетей – вот тебе жалованье.
– Как можно, ваша милость! Четыре раза приговаривался к виселице, и вдруг – плети! Разве это по мне?
– Какую же должность ты просишь?
– Помощника привратника, сэр. Она как раз свободна, как я слыхал, – сказал заключенный. – Места палача я бы просить не стал. Неудобно на живое место, да я и не гожусь; мне скотину убить трудно, не то что человека.
– Это делает тебе честь, – сказал судья, делая именно тот вывод, к которому незаметно и шутливо вел его Рэтклиф. – Но как можно доверить тебе сторожить заключенных, когда ты ухитрился бежать из всех тюрем Шотландии?
– С дозволения вашей милости, – сказал Рэтклиф, – если я сам так ловко убегаю, значит, от меня может убежать только еще больший ловкач. Пусть кто хочет попробует удержать меня в тюрьме, когда я надумал убежать, или убежать от меня, когда я его сторожу.
Это соображение, видимо, поразило судью, но он ничего больше не сказал и велел увести Рэтклифа.
Когда смелого плута вывели из зала, судья спросил секретаря, как ему нравится такая наглость.
– Не смею давать вам советы, сэр, – ответил секретарь. – Но если Джеймс Рэтклиф решил обратиться на путь истинный, трудно найти во всем городе более подходящего человека на должность тюремщика. О нем надо бы доложить мистеру Шарпитло.
По уходе Рэтклифа Батлер занял его место у стола. Судья обратился к нему учтиво, но дал понять, что против него имеются веские улики. С чистосердечием, подобающим его сану и свойственным ему от природы, Батлер признал свое невольное присутствие при убийстве Портеуса и, по требованию судьи, изложил все подробности этого злополучного дела. Все эти подробности, уже сообщенные нами читателю, были тщательно записаны секретарем со слов Батлера.
После этого начался перекрестный допрос – процедура мучительная для самого чистосердечного свидетеля, ибо вряд ли кто сумеет рассказать, особенно о событиях волнующих и трагических, с такой ясностью, чтобы его нельзя было запутать придирчивыми и подробными расспросами.
Судья прежде всего отметил, что Батлер, по его собственным словам, возвращался в Либбертон, а между тем был остановлен толпою у Западных ворот.
– Вы всегда возвращаетесь в Либбертон через Западные ворота? – спросил насмешливо судья.
– Нет, разумеется, – ответил Батлер с поспешностью человека, который заботится о точности своих показаний. – Но я оказался ближе всего именно к этим воротам, а их уже вот-вот должны были запереть.
– Это неудачно для вас, – сухо сказал судья. – А теперь скажите: когда вы, повинуясь грубой силе, стали, как вы говорите, невольным свидетелем зрелищ, возмутительных для каждого гуманного человека, но в особенности для священника, неужели вы не попытались сопротивляться или убежать?
Батлер ответил, что численность мятежников не давала ему возможности сопротивляться, а неустанный их надзор не позволял убежать.
– Очень неудачно для вас, – повторил судья тем же сухим тоном. Все так же учтиво, но с явным недоверием к Батлеру он задал ему множество вопросов относительно поведения толпы и примет ее главарей. Желая застать Батлера врасплох, он неожиданно возвращался к его прежним показаниям и вновь требовал до мельчайших подробностей припомнить весь ход трагических событий. Однако ему не удалось заметить противоречий, которые подтверждали бы его подозрения. Наконец они дошли до Мэдж Уайлдфайр. При упоминании этого имени судья и секретарь обменялись многозначительными взглядами. Вопросы дотошного судьи о ее внешности и одежде были так подробны, словно от них зависела участь Славного Города. Но Батлер почти ничего не мог сказать о ее чертах, ибо лицо предполагаемой женщины было вымазано сажей и красной краской, наподобие боевой раскраски индейцев, и, кроме того, наполовину скрыто чепцом. Он сказал, что вряд ли узнал бы Мэдж, если б увидел ее в другой одежде, но, вероятно, узнал бы ее по голосу.







