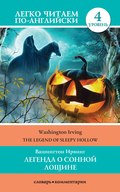Вашингтон Ирвинг
Таинственный портрет
Как приятна картина, когда в воскресное утро колокол рассыпает по тихим полям торжественный перезвон, а крестьяне в своих лучших нарядах, с румянцем на щеках и сдержанными улыбками, неторопливо стекаются по луговым тропам к церкви. Но еще приятнее видеть их по вечерам у порога своих коттеджей, наслаждающихся тихой отрадой и красотой, созданными их собственными руками.
Именно это сладостное ощущение дома, неизменное отдохновение, находимое в домашнем пейзаже, и есть праматерь самых стойких добродетелей и самых непорочных радостей. И я не вижу лучшего способа закончить свои отрывочные заметки, чем процитировав слова современного английского поэта, удивительно метко сказавшего[5]:
Жилища всех мастей: тут есть и замка свод,
И роскошь куполов, и особняк в саду тенистом,
Что в городке иль деревушке приютившись,
Главенствует над скромными домами,
И россыпь крыш соломенных в долине;
И с давних пор сей остров тем известен,
Что здесь блаженство мирной жизни обитает;
Покой блаженный, словно нежный голубь,
Вдруг гнездышко уютное обретший
Под сенью доброты и тихой неги,
Пусть благодатью над землей витает;
И этот мир в ладу с собой пребудет,
Вовеки сторонясь чужого взора,
Лишь в добром слове божием нуждаясь;
Он как цветок, в расселине скалы укрытый,
Взглянув на небо, он улыбкой расцветает.
Искусство сочинения книг
Если справедлив суровый приговор Синезия: «Похитить труды умерших людей – куда большее преступление, нежели похитить их одежду», то что станется тогда с большинством сочинителей?
Роберт Бертон, «Анатомия меланхолии»[6]
Меня не раз удивляла невероятная плодовитость прессы и то, что множество умов, которых Природа прокляла, наградив бесплодием, производят такую прорву публикаций. Однако по мере продолжения жизненного пути человек с каждым днем удивляется все меньше и постоянно находит простые причины, стоящие за великими чудесами. В своих странствиях по столице я случайно наткнулся на сцену, открывшую мне загадку сочинительского ремесла, разом покончившую с моими вопросами.
Одним летним днем я бродил по залам Британского музея с типичной апатией, с какой люди фланируют по музею в теплую погоду – иногда склоняясь над витринами с минералами, иногда пытаясь разгадать иероглифы на египетской мумии, а иногда – почти с таким же успехом – уловить суть аллегорических картин на высоких потолках. Пока я праздно глазел по сторонам, мое внимание привлекла дверь в самом конце анфилады. Она была закрыта, но время от времени отворялась, чтобы украдкой выпустить существо странного вида, обычно одетое во все черное, торопливо семенящее через залы и ничего не замечающее вокруг. Налет загадочности пробудил во мне ленивое любопытство, и я решил преодолеть этот узкий пролив и взглянуть на неведомый берег. Дверь поддалась с легкостью, с какой ворота заколдованного замка впускают безрассудного странствующего рыцаря. Я очутился в просторном зале, уставленном стеллажами с книгами солидного возраста. Поверх шкафов под самым карнизом висело множество потемневших портретов древних авторов. В зале были расставлены длинные столы с пультами для чтения и письма, за которыми сидели бледные, усердные субъекты, внимательно читающие пыльные тома, роющиеся в заплесневелых рукописях и делающие из них массу выписок. В этом загадочном покое царила мертвая тишина, нарушаемая лишь скрипом пера по бумаге да редким глубоким вздохом одного из мудрецов, когда он менял позу, чтобы перевернуть страницу старого тома, – не иначе порождением пустоты и метеоризма, свойственных ученым изыскам.
Время от времени один из субъектов что-то писал на клочке бумаги и звонил в колокольчик, после чего появлялся служка, в полном молчании забирал бумажку, бесшумно выскальзывал из помещения и возвращался, нагруженный увесистыми томами, в которые получатель немедленно вонзал когти и зубы с голодной прожорливостью. Я не сомневался, что набрел на секту чародеев, погруженных в изучение оккультных наук. Сцена напомнила арабскую сказку о философе, запертом в заколдованной библиотеке во чреве горы, выход из которой открывался только раз в год; духи приносили ему книги о всяких тайных знаниях, отчего к концу года, когда волшебный портал вновь открывался, он выходил наружу настолько посвященный в запретное знание, что мог воспарить над толпой и управлять законами природы.
Мое любопытство окончательно проснулось, я шепотом подозвал служку на выходе из зала и попросил объяснить смысл странной сцены, которую я наблюдал. Всего пары слов хватило, чтобы понять, в чем дело. Выяснилось, что загадочные субъекты, которых я принял за чародеев, в основном были писателями, занятыми сочинением книг. Я попал в читальный зал великой Британской библиотеки, неохватной коллекции томов всех эпох и на всех языках, многие из которых теперь забыты и большинство из которых мало кто читал, – в одну из тайных заводей устаревшей литературы, которую часто посещают современные авторы, ведрами черпающие классическую мудрость или «чистый, незамутненный английский язык», чтобы пополнить жидкие ручейки собственных мыслей.
Получив разгадку, я присел в углу и стал наблюдать за этой книжной фабрикой. Я заметил тощее, желчное создание, отбирающее исключительно оправленные в черную кожу поеденные червями тома. Очевидно, он сочинял некий глубокомысленный трактат, который купит любой, желающий слыть образованным человек, чтобы потом поставить его на видное место в своей библиотеке или положить в раскрытом виде на стол и никогда уж в него не заглядывать. На моих глазах писатель не один раз доставал из кармана большой сухарь и грыз его – то ли вместо обеда, то ли борясь с изнеможением желудка, вызванным чтением такого количества сухих трудов, – об этом лучше судить более скрупулезным исследователям, чем я.
Там также сидел франтоватый низкорослый господин в ярком костюме с довольным видом заядлого сплетника, явно говорящим о хороших отношениях между автором и его книготорговцем. Присмотревшись, я узнал в нем прилежного поставщика сочинений на самые разные темы, прочно оседлавшего рыночный спрос. Мне стало интересно посмотреть, как он изготавливает свой товар. Он был суетлив и деловит больше других – совал нос в разные книги, бегло листал рукописи, брал кусочек отсюда и кусочек оттуда, «строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного»[7]. Содержание его книги, похоже, было таким же разнообразным, как варево в котле ведьм из «Макбета». Пальчик малый и большой, пясть лягушки, жало гада, добавить собственных сплетен, «обезьяньей крови», и «Закипай, варись стряпня!»[8].
В конце концов, подумал я, не дается ли эта вороватость писателям по разумной причине? Не служит ли она Провидению способом сохранения семян знания и мудрости из века в век вопреки неизбежному обветшанию трудов, в которых они содержались? Мы знаем, насколько мудро и прихотливо Природа заботится о переносе семян из края в край в утробе некоторых птиц, отчего стервятники и безнаказанные грабители садов и кукурузных полей, по сути, выступают курьерами, распространяющими и умножающими ее блага. В такой же манере писаки-стервятники на лету подхватывают достоинства и высокие мысли древних забытых авторов и рассыпают их, позволяя им расцвести и принести плоды в далеком от них будущем. Многие из трудов переживают своеобразное переселение душ и вновь появляются в новых жанрах. То, что когда-то было нудной историей, оживает в облике романа, древняя легенда превращается в современную пьесу, сухой философский трактат порождает целую серию живых, блестящих эссе. Так же обстоит дело с расчисткой американских зарослей: вместо сожженного соснового леса вырастает потомство – карликовые дубы; мы не видим гниющего в почве поваленного ствола, но он дает жизнь целой колонии грибов.
Поэтому не стоит горевать об увядании и забвении писателей древности. Они подчиняются великому закону Природы, определяющему, что срок жизни всех материальных вещей в мире ограничен, но в то же время предписывающему, что элементы, из которых они состоят, никуда не исчезнут. Животные и растения умирают поколение за поколением, но принцип жизни передается потомкам, и процветание рода не прекращается. Так и писатели порождают писателей, а произвев на свет обильное потомство и достигнув преклонного возраста, засыпают вечным сном в компании своих отцов, то есть, тех писателей, которые жили до них и кого они обокрали.
Предаваясь этим сумбурным соображениям, я прислонил голову к стопке старинных книг. Трудно сказать, что было тому причиной – убаюкивающие эманации этих трудов, полная тишина в зале, вызванная длительной прогулкой вялость или незадачливая привычка засыпать в неподходящее время в неподходящих местах, которой я, к своему прискорбию, подвержен, но случилось так, что я задремал. Однако воображение мое продолжало работать, перед моим внутренним взором разыгрывалась все та же сцена, поменялись лишь некоторые детали. Мне снилось, что зал по-прежнему украшен портретами древних авторов, но число их увеличилось. Длинные столы исчезли, вместо чародеев я видел толпу в лохмотьях и обносках, какую можно встретить роющейся в огромных кучах поношенной одежды на Монмут-стрит. Всякий раз, когда они хватали какую-нибудь книгу, мне представлялось, как бывает в нелепых снах, что она превращалась в предмет одежды иностранного или античного покроя, который они тут же напяливали на себя. Я также заметил, что никто из них не стремился подобрать наряд одного вкуса, но выхватывал рукав отсюда, плащ оттуда, фалду из третьего места, одеваясь безо всякого разбору, причем из-под благородных одежд все еще выглядывали старые лохмотья.
Там был дородный, розовощекий, упитанный священник, разглядывавший через пенсне заплесневелые труды полемистов. Вскоре он исхитрился натянуть тяжелую мантию одного из древних отцов, а у другого стащил седую бороду, придав себе чрезвычайно умный вид. Однако глупая ухмылка на его физиономии сводила на нет все потуги выглядеть мудро. Некий джентльмен болезненной внешности был занят тем, что вышивал свою хлипкую одежонку золотыми нитками, надерганными из старых придворных платьев времен правления королевы Елизаветы. Другой блестяще облачился в одежды из иллюстрированной рукописи, прицепил к груди бутоньерку, сорванную в «Парадизе изящных стихов», надел набекрень шляпу сэра Филипа Сидни и с видом пошлой щеголеватости удалился. Третий, тщедушный и малорослый, храбро зачерпнул сил из нескольких туманных трактатов по философии, выглядя очень внушительно спереди, но оставаясь жалким оборванцем сзади, – я понял, что он прикрыл убогость своих одежд парчовыми лоскутами, взятыми у древнеримского мыслителя.
Что правда, то правда – там были и хорошо одетые господа, прихватившие самоцвет или два, которые теперь сверкали на принадлежащих им богатых одеждах, не затмевая их. Некоторые примеривали на себя одеяния древних авторов лишь для того, чтобы усвоить принципы их вкуса и перенять их ореол и дух, но должен с огорчением сказать, что слишком многие, как я уже заметил, старались нарядиться с головы до ног как попало. Следует упомянуть одного гения в потрепанных бриджах и гамашах с пастушьей шляпой на голове, имевшего неудержимую тягу к пасторали, но чьи путешествия в «деревню» ограничивались популярными точками Примроуз-Хилла и уединенными уголками Риджентс-Парка. Он украсил себя венками и лентами древних пасторальных поэтов и, свесив голову набок, разгуливал с зачарованным, жеманным видом, лопоча о «зеленых полях». Однако больше всего меня поразил практичный пожилой господин в облачении священника с удивительно большой, квадратной, но совершенно лысой головой. Он вошел в зал, сопя и отдуваясь, с угрюмым апломбом растолкал себе дорогу локтями, схватил толстый греческий том в четверть листа, хлопнул им себя по голове и величественно поплыл к выходу в роскошном завитом парике.
В самый разгар литературного маскарада вдруг со всех сторон посыпались крики: «Воры! Воры!» Я взглянул вверх и – вот те на! – портреты на стенах ожили! Старые авторы сначала высунули из холстов головы и плечи, около минуты с любопытством смотрели сверху на пеструю толпу, а затем с пылающими от гнева глазами сошли вниз, чтобы вернуть свою похищенную собственность. Поднялись не поддающиеся описанию суета и переполох. Несчастные воришки бросились бежать, тщетно пытаясь спасти свою добычу. На одном краю полдюжины старых монахов сдирали одежду с современного профессора, на другом – опустошение проникло в ряды современных драматургов. Бомонт и Флетчер бок о бок сражались на поле боя, как Кастор и Поллукс, а крепыш Бен Джонсон совершил больше ратных подвигов, чем в бытность добровольцем на полях Фландрии. А что касалось франтоватого коротышки, собирателя всякой всячины, обвесившегося цветными лоскутами, что твой арлекин, до него, как до тела Патрокла, старалась добраться целая группа истцов. Мне было горько наблюдать, как многие мужи, на которых я привык смотреть снизу вверх с почтением и трепетом, пытались улизнуть, едва прикрывая наготу клочком одежды. И тут мне на глаза попался практичный старый господин в завитом греческом парике, в страшной панике убегающий от бросившейся за ним в погоню полдюжины писателей. Они чуть не хватали его за ляжки, в мгновение ока парик слетел с него, на каждом шагу он терял какую-нибудь часть своей ризы, пока через несколько мгновений помпезный вельможа не съежился в маленького, плюгавого, «сморщенного, лысого стрелка»[9] и не выскочил за дверь в болтающихся на спине лохмотьях.
Бедствие, постигшее премудрого жителя Фив, было таким смехотворным, что я разразился приступом нескромного хохота, разрушившего иллюзию. Галдеж и возня прекратились. Зал обрел прежний вид. Старые авторы убрались обратно в рамы, висящие на стенах в угрюмом полумраке. Я проснулся в своем углу, обнаружив, что вся компания книжных червей в изумлении уставилась на меня. В моем сне не было ничего подлинного, кроме приступа смеха – звука, неслыханного прежде в этом суровом святилище и настолько чудовищного для ушей мудрости, что он наэлектризовал всю писательскую братию.
Ко мне подошел библиотекарь и спросил, есть ли у меня абонемент. Я сначала не понял вопроса, но быстро разобрался, что библиотека имела статус литературного «заповедника» со своими правилами охоты, не позволяющими преследовать дичь без особого патента и разрешения. Одним словом, во мне увидели отпетого браконьера, и я предпочел поспешно ретироваться, пока на меня не спустили целую свору писак.
Сельская церковь
Эй, джентльмен!
Шерсти мешок? Иль секретер старинный?
Иль бархата отрез? За фунты или ярды
Дворянство продается нынче?
Джон Флетчер, «Куст нищих»
Для изучения характеров нет более подходящего места, чем английская сельская церковь. Я однажды гостил пару недель в поместье у друга, живущего по соседству с одной из них, особенно мне понравившейся. Она была той сочной крупицей милой старины, что придает английскому пейзажу его необыкновенный шарм. Церковь возвышалась посреди местности, населенной древними родами, и накопила в своих прохладных молчаливых приделах прах многих поколений благородных прихожан. Внутренние стены были облеплены скульптурами всех времен и стилей. Приглушенный свет просачивался внутрь сквозь геральдику, которой были обильно украшены витражные окна. В разных частях церкви находились гробницы рыцарей и высокородных дам изумительной работы с фигурами усопших, высеченными из цветного мрамора.
Куда ни глянь, взор натыкался на какой-нибудь образчик честолюбивой бренности, тщеславный мемориал, воздвигнутый людской гордыней над прахом родных – в храме, принадлежащем смиреннейшей из всех религий.
Паства состояла из окрестных людей высокого звания, сидящих на скамьях с пышной обивкой и подушками, в руках – раззолоченные требники, на дверцах скамеек – родовые гербы местных жителей и крестьян, заполнивших задние ряды и маленькую галерку за органом, и бедных прихожан, место для которых отвели на лавках в приходах.
Службу правил гнусавый, упитанный викарий, живший в уютном доме рядом с церковью. Он был желанным гостем за любым столом в округе и слыл азартным охотником на лисиц, пока возраст и сытая жизнь не довели его до состояния, в котором он разве что мог выехать верхом посмотреть, как спускают собак, и потом корчить из себя охотника за ужином.
С таким пастырем я счел невозможным настроиться на мысли, приличествующие для этого времени и места. Подобно многим другим нестойким христианам я вступил в компромисс со своей совестью и, переложив вину за собственную провинность на другого, занялся наблюдением за соседями.
Я был все еще чужим в Англии и с любопытством подмечал манеры здешнего светского общества. Как обычно, наиболее признанные, титулованные и уважаемые лица вели себя с наименьшей претенциозностью. Меня особенно поразило семейство одного высокородного дворянина, состоявшее из нескольких сыновей и дочерей. Их наружность отличалась совершенной простотой и непритязательностью. Они прибыли в церковь в самых скромных экипажах, а некоторые вообще пешком. Юные леди останавливались и мило беседовали с крестьянами, ласкали детей, выслушивали рассказы застенчивых селян. Их лица отличали открытость, чудесная свежесть и большая утонченность, но при этом светились искренней веселостью и притягательным дружелюбием. Братья были высоки и изящно сложены. Одеты по моде, но неброско – с преобладанием опрятности и приличия, без вычурности или фатовства. Они во всем вели себя просто и естественно с величавой грацией и благородным прямодушием, отличающими людей, родившихся свободными и не стесненных в своем развитии ощущением собственной ущербности. Подлинное достоинство имеет неподдельную прочность, никогда не пасующую перед вступлением в контакт и общением с другими людьми даже самых низших сословий. Только фальшивая гордость, болезненная и ранимая, отшатывается от любого прикосновения. Мне было приятно наблюдать за тем, в какой манере они беседовали с крестьянами о их заботах и занятиях на открытом воздухе, которые так любы живущим в деревне джентльменам. Беседа велась без какой-либо надменности с одной стороны и без раболепия с другой. На разницу в положении указывало лишь привычное уважение крестьян к титулам.
Контраст составляла семья зажиточного гражданина, накопившего огромное богатство и купившего поместье и особняк разорившегося дворянина по соседству, надеясь приобрести образ жизни и уважение, отличающие наследного лорда. Его семья всегда приезжала в церковь, как принцы. Их привозила державного вида, украшенная геральдическими знаками карета. Родовые гербы расточали серебряное сияние с каждой части упряжи, где только удалось их прилепить. На козлах сидел толстый кучер в треуголке, пышных кружевах и льняном парике, плотно обхватывающем круглое розовое лицо, рядом с ним – холеный дог. На запятках тряслись два лакея в роскошных ливреях с огромными букетами и тростями с золотыми набалдашниками. Карета двигалась с поразительной величавостью, колыхаясь на длинных рессорах. Даже кони грызли удила, выгибали шеи и гордо поглядывали с таким видом, будто обычные лошади были им неровня. Либо им передалась часть семейной гордости, либо их слишком туго запрягли.
Вид этой блестящей процессии, подъезжающей к церковным воротам, вызвал у меня невольное восхищение. Поворот вокруг церковной ограды ознаменовался грандиозным спектаклем – громкий щелчок бича, натуга и замешательство лошадей, блеск сбруи, скольжение колес по гравию. Это был момент торжества и бахвальства кучера. Лошадей то понукали, то сдерживали, отчего они волновались, роняя пену. Кони шли гарцующей рысью, разбрасывая гальку на каждом шагу. Толпа спокойно идущих к церкви селян поспешно расступилась в стороны и в немом восхищении разинула рты. У самых ворот лошади были остановлены так резко и внезапно, что чуть не встали на дыбы.
Лакеи страшно засуетились, спрыгивая с козел, откидывая ступеньки и готовя схождение августейших особ на грешную землю. Сначала в проеме кареты показалось круглое багровое лицо старого гражданина. Он осмотрелся вокруг с важным видом человека, привыкшего повелевать рынком ценных бумаг одним кивком головы. За ним вышла его супруга – ухоженная, мясистая, довольная собой дама. Должен признать, ее облик не отличался заносчивостью. Она являла собой картину бескрайнего, неприкрытого, пошлого наслаждения жизнью. Жизнь была к ней благосклонна, и она в ответ любила жизнь. У дамы имелись красивая одежда, красивый дом, красивая карета и красивые детки – все, что ее окружало, было красиво – одни сплошные прогулки, выезды и пиры. Не жизнь, а вечное блаженство, нескончаемый праздник.
Вслед за блестящей четой появились две дочери. Девушки определенно были недурны собой, однако сохраняли надменный вид, охлаждающий восхищение наблюдателя и наводящий на критические мысли. Их платья были сверхмодного фасона, и, хотя никто не мог отрицать богатство их убранства, его уместность в скромной деревенской церкви вызывала сомнения. Дочери важно вышли из кареты и проплыли вдоль ряда крестьян, едва касаясь ногами земли. Они рассеянно посмотрели вокруг, не задерживаясь холодным взглядом на грубых крестьянских лицах, как вдруг встретились глазами с семейством дворянина. Тут их выражение немедленно озарилось улыбкой, и они присели в глубоком, элегантном реверансе. Ответный реверанс показал, что они едва были знакомы.
Не следует забывать и о двух сыновьях важного гражданина, подлетевших к церкви в открытой коляске с верховой свитой. Они вырядились по последнему писку моды, педантично ей следуя, что отличает позера от человека хорошего вкуса. Юноши держались вместе и искоса поглядывали на всех, кто приближался к ним, словно оценивая претензии чужаков на респектабельность, но в то же время ни с кем не заговаривали за исключением редкого лицемерного обмена приветствиями. Двигались они тоже неестественно, ибо, следуя капризу последней моды, затянули свои туловища в корсеты и лишили себя простоты и свободы движений. Искусство на славу постаралось, чтобы превратить их в модников, но Природа отказала им в своей анонимной милости. Они выглядели нескладно, как простолюдины, но при этом сохраняли горделивый, высокомерный вид, какого никогда не увидишь у истинного джентльмена.
Я так подробно остановился на описании этих двух семейств, потому что считаю их примерами тех, кого часто можно встретить в этой стране, – непритязательных великанов и кичливой мелюзги. Мне нет дела до титулов, если только им не сопутствует благородство души. Однако, во всех странах, где существуют искусственные различия, я замечал, что высшие классы всегда наиболее учтивы и непритязательны. Те, кто уверен в своем положении, меньше всех других пытаются посягать на чужое. И в то же время нет ничего оскорбительнее домогательств пошляка, стремящегося возвысить себя за счет унижения своего ближнего.
Раз уж я противопоставил эти две семьи, следует проследить, как они вели себя в церкви. Дворянское семейство внимало проповеди спокойно, серьезно и внимательно. Нельзя сказать, что их охватила горячая набожность, скорее они вели себя так из уважения к святым местам, неотделимого от врожденной светскости. Другая семья, напротив, непрерывно шепталась и шушукалась, стараясь и так и эдак продемонстрировать свои наряды в жалких потугах заслужить восхищение деревенских прихожан.
За службой следил лишь старый гражданин. Он целиком взял на себя семейное бремя поклонения, показывая, что при всем величии и богатстве ему не чужды религиозные чувства. На моих глазах олдермен, вытянув шею как черепаха на водопое, прилюдно проглотил миску благотворительного супа, причмокивая при каждом глотке и приговаривая «отличная еда для бедняков».
После окончания службы я с интересом проследил, как будут уезжать разные члены двух групп. Молодые дворяне и их сестры, так как день был погожий, решили идти пешком через поля, по пути болтая с деревенскими жителями. Другая семья отправилась, как приехала, – с величайшей помпой. Экипажи опять подкатили к самой церкви. Опять защелкали кнуты, застучали копыта, засверкала сбруя. Лошади тронули все разом, опять бросились врассыпную селяне. Колеса подняли тучу пыли, и семейство важных особ умчалось, как ветер.