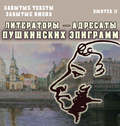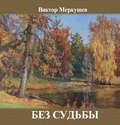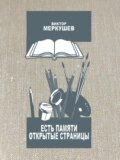Виктор Меркушев
Белый шум
Несколько слов о том, как я люблю театр
Я очень люблю театр, но театралом меня назвать сложно. Никто из моих друзей и знакомых так и не смог уличить меня в пристрастии к театру, и это, наверное, выходит оттого, что я просто не вызываю у них в этом отношении никаких подозрений. Скажу больше, все люди из моего круга общения привыкли прекрасно обходиться безо всякого искусства, тем более театра, с его нарочитой условностью и необходимостью сбивать циркадные ритмы за вечерним бдением. Да и я тоже с трудом жертвую лишним часом драгоценного сна ради похода в театр и, возвращаясь домой за полночь, неизменно ругаю себя за проявленную слабость перед искушением. Зато полученных впечатлений мне хватает надолго: проза повседневности просто не выдерживает соседства с пережитыми ощущениями, неизменно уступая им своё приоритетное место.
Я безумно благодарен театру за возможность безнаказанно наслаждаться блаженным одиночеством, ибо совсем не рискую встретить там никого из моих приятелей и коллег. Кроме того, я могу ходить везде, где дозволяется бродить купившему билет. Могу заглядывать в оркестровую яму, любоваться декоративным убранством интерьеров и разглядывать хрустальные люстры, попутно слушая, как музыканты настраивают свои строптивые инструменты на фоне белого шума зрительного зала, состоящего из вежливого покашливания и шуршания конфетной фольги. Какое-то дивное умиротворение наступает во мне после третьего звонка, когда я смежаю веки и погружаюсь в сладкую полудрёму, уже не нарушаемую ничем. А когда после заключительного отделения закрывается занавес и начинается звонкий аплодисмент, я стремительно спешу в гардеробную, дабы в числе первых получить свою верхнюю одежду и постараться успеть на последний трамвай.
Весь следующий день хожу торжественный и счастливый, словно мне случилось выиграть в лотерею. Я знаю, что очень долго буду вспоминать вчерашнее посещение во всех мельчайших подробностях, и меня ещё не скоро покинут чувственные образы и впечатления, связанные с театром. Единственно, что, пожалуй, я не смогу припомнить – это название и характер действа, происходившего на сцене, то ли там был балет, то ли спектакль или опера. Впрочем, для любящего театр такие мелочи значения не имеют, ведь я люблю театр, а не тех избранников фортуны, кому посчастливилось там служить.
Ночи белой, бессонной и беспокойной
Белая ночь навязчива и бесцеремонна. От неё невозможно спрятаться и укрыться: она нахально вторгается в жилища через затемнённые окна, проникая сквозь любые светоотражатели и тяжёлые шторы, заполняя своим прозрачным телом всё имеющееся пространство. Её не смущают ни закрытые двери, ни раздвижные ширмы, ни перегородки, остановить её способен только спешащий июль, с приходом которого на небо вновь вернутся разноцветные звёзды, а в жилищах снова поселится обсидиановый полумрак, полный сладкой дрёмы и волшебных снов. В отличие от июльской ночи, посылающей глубокие и дивные сны, белая ночь трагически бессонна, к тому же очень плохой и непрошеный собеседник. Беспричинная тревога и болезненная усталость – это всё, чем она способна одарить страдальца, злокозненно лишённого сна и покоя.
Мне не раз приходилось встречать восторженные суждения о её утончённой красоте, призывные посылы и славословия в её адрес. Я абсолютно уверен, что эти люди некогда были услышаны бледной обольстительницей, раз она, самонадеянно уверившись в своей привлекательности и исключительности, стремится войти в каждый дом и познакомиться с каждым. Любящие её редкие счастливцы будут торжествовать и праздновать, а те, кому белая ночь совсем не по душе, будут вынуждены терпеть эту гостью до конца июня, когда она, слабеющая и уже не столь назойливо велеречивая, покорно передаст свою бессонную светоносную суть заждавшимся настоящего дела уличным фонарям.
Стать Ихтиандром
Наверное любой человек может быть сравним с героем Александра Беляева, Ихтиандром, по способности обитать в двух мирах сразу: внутреннем и внешнем.
Когда в последнем случается удушливая социальная атмосфера или засквозит враждебный холодок межличностной неприязни, то всегда можно укрыться в спасительный первый мир, где климатические условия существования человек себе выбирает сам. Этот мир способен противостоять сторонним влияниям и совершенно непроницаем для зловещих предписаний судьбы. Здесь отсутствует шкала времени и царит необыкновенное безмолвие, поскольку язык души в своей природе не содержит звуков.
Но человек упрямо ищет для себя состоятельности и счастья во внешнем мире, хотя фактор времени неизбежно сводит на нет все его внешние обретения. Во внутреннем же мире не существует времени и не действует закон причинности, когда следствие способно отменять любое твоё достижение. Одна лишь незадача мира, спрятанного внутри: знать и понимать, что такое счастье и абсолютная невозможность им поделиться.
Жёлтые бабочки
«…когда Маурисио Вавилонья стал её преследовать, как призрак, который только ею различался в толпе, она поняла, что жёлтые бабочки почему-то всегда при нём. Маурисио Вавилонья мог быть среди публики на концертах, в кино, в церкви, и ей не надо было искать его взглядом, потому что над ним всегда кружились бабочки». А разумные люди отмахивались от этих назойливых насекомых, считая их вестниками несчастья, словно догадывались о судьбе самого Маурисио, отмеченного ликующим карнавалом желтокрылых однодневок. Почему порхающие красавицы избирали влюблённых – так осталось тайной кудесника Маркеса, но можно предположить, что последние, как и сами бабочки, способны жить лишь одним днём и им ничего не нужно кроме красоты и веселья ликующего карнавала. Однако в колоде слов и значений от великого романиста, «любовь» и «несчастье» расположены друг за другом, и оба они не имеют в своей основе ни прочности, ни глубины. Хотя, наверное, это и неудивительно, и правы те, кто отмахивался от навязчивых однодневок. Ибо прочность и глубину имеет только то, что не может быть выражено словом или ярким малопонятным символом.
Солидаризуясь с помыслами друидов
Сколько бы ни убеждал себя человек в своей избранности среди других творений – это всего лишь проявление его неуёмной гордыни, поскольку даже к деревьям Создатель был более благосклонным. Он наградил их почётной миссией украшать землю, назначив деревьям долгий и беспечальный век, позволяя год от года становиться всё интересней и краше. Каждую весну деревья способны возрастать и обновляться, переживая пламенную круговерть юности и пребывая в полном согласии со всей пробуждающейся природой. Более того, деревья, являясь не только благовидными, но и полезными звеньями в целостной панораме жизни, призваны давать приют прочим земным тварям, оберегая их и защищая в своих чудесных кронах.
Изучая кельтские руны, я обратил внимание на то, какое благородство и могущество предписывалось деревьям, и какой восторг и благоговение испытывали древние друиды перед этими замечательными созданиями Творца всего сущего.
Мне привелось видеть и приземистые сосны Севера, и высоченные пальмы тропиков, и везде мне казалось, что деревья держат на своих ветвях небо. Понимая, насколько тяжелы небесные выси с россыпями звёзд и галактик, всё рациональное во мне возмущалось подобному и протестовало против этого нелогичного предположения, но чувства вполне принимали такое ненаучное устроение Вселенной. Ведь у деревьев удивительное множество ветвей, и не иначе они затем, чтобы держать небо…
К формуле недеяния
Тёмная вода залива неутомимо накатывается на берег упругой волной, оставляя на песке множественные следы, словно есть в том какая-то высшая необходимость и без этих едва заметных отметин весь мир будет обделён и неполон. А над заливом плывут облака, ежеминутно меняя свои размеры и формы. И если к ним присмотреться, то их плавное перестроение тоже подчинено некоему неизъяснимому алгоритму, и в формируемых невесомой воздушной взвесью обличьях есть и смысл, и значение, пусть не для всех смотрящих, но для кого-то из них точно. Впрочем, что ни возьми, во всём можно увидеть необходимые приводные ремешки причинной механики несокрушимого бытия, и всё существует зачем-то и для чего-то.
Тогда, наверное, и все человеческие поступки тоже подчиняются ниспосланным необходимостям, и человек не зря плутает по чужим судьбам, растрачивает себя в мелочах или напротив – берётся за неосуществимое?
Однако совесть, либо ещё что-то более глубокое, это напрочь опровергает, оставляя нас с чувством вины и досады и подводя к спасительной формуле недеяния, исключающей все наши самочинные предприятия и дерзкие помышления.
Я всегда пытался понять подлинное значение этого буддийского принципа, но всякий раз что-нибудь мне мешало добраться до сути. Всю жизнь я старался не делать ничего плохого, отдавая всего себя живописным полотнам, на которых стремился изображать как плывут облака и как на берег накатывается упругая волна залива. Но и в этот процесс всё время встраивались какие-то невидимые приводные ремешки причинной механики бытия, втягивающие меня помимо воли в сторонние события и чужие дела. Напрасно я мечтал о своём невмешательстве в происходящее и в кем-то выстроенный порядок вещей – этот порядок неотвратимо затягивал в себя всё, что могло крутиться и как-то работать.
Пожалуй, чтобы освободиться от всех влияний, отзывающихся в моей душе разочарованием и болью, надо забросить холсты и краски и, отстранившись от всего сущего, погрузиться в чистое созерцание. Тем более что так великолепно изображают в небе фигуры белоснежные облака, и такие красивые рисунки оставляет волна на песке…
Царскосельской «Башне-руине»
Есть в Царскосельском парке фельтеновская «Башня-руина», уводящая случайного прохожего в мир неосуществленных желаний, утраченных иллюзий и всего основательно позабытого. Там, за монументальной аркой полуразрушенной башни, сокрыты все героические свершения, потерявшие в тени забвения свой блеск и величие, равно как и соседствующие с ними дерзновенные достижения, созданные человеческим гением, которые так и остались невостребованными, и оттого утратившими свою силу.
Можно подумать, что это воплощённая грёза из фантазий своенравного Пиранези или тревожное предостережение Шиллинговского, провиденное Фельтеном и воссозданное им в камне. Но нет. Это единственный в своём роде храм отверженным и затерянным во времени поэтам и художникам, прорицателям и героям, подвижникам и первооткрывателям. Там время спрессовано и бесцветно, словно гудрон, а все события и имена сплелись воедино в пронизанный мхами и лишайниками почвенный наст, покрывающий часть стен этого храма, увенчанного невесомым навершием в виде изящной короны.
Остановись, прохожий, возле этого храма и произнеси своё имя. Ты ведь тоже его невольный прихожанин, ибо всему и вся надлежит забвение, какие бы фанфары сейчас не звучали в твою честь. А если ты просто скромный наблюдатель нашего подлунного мира, то тоже не забудь поведать о себе вечности, поскольку она не разбирает людей по делам и заслугам, а просто безучастно расставляет всех рядом. Постой здесь и иди дальше своим путём, избранным собственным волением и пониманием бытийных смыслов. Но знай, какими бы путями ты ни шёл, всё равно дорога приведёт тебя сюда, во мрак стрельчатых проёмов, где тебе случится соединиться с тишиной и тенью, в которой некогда сможет отдохнуть и перевести дух случайный прохожий.
Ноумен человека
Меняя звенья эволюции и перенастраивая среду, Создатель явил человека, наделив его разумом, волей и чувственным восприятием. Разобраться в том, как человек устроен, необычайно сложно, ещё сложнее понять, зачем Творцу понадобилась столь сложноустроенная сущность. Ведь практически каждый из нас наделён чудесным даром познания и созидания, вкупе со способностью к совершенствованию этого бесценного дара. Но в повседневной жизни эта дарованная искра Божья оказывается бесполезной или даже лишней.
А может, этот дар вообще случился из иного источника? Писал же некогда Пушкин: «Чёрт догадал меня родиться в России с душой и талантом…» Хотя поэт здесь немного погорячился, поскольку – в России, не в России – особенного значения не имеет. Да и талант с душою – есть у всякого, разве что не всякий пытается за счёт «души и таланта» жить. Однако ответа, зачем человеку это очевидное отягощение, поэт так и не даёт.
За Пушкина догадывать мы не будем, остановимся на очевидном. Да, человек нечасто раскрывает свой замечательный дар постижения и преобразования окружающего мира. Возможно, ему мешает детерминированная социальная конструкция или же предопределения Мироздания расставлены так, чтобы этот путь реализации природного дара человека был для него закрыт. И всё обустроено так, чтобы личностный потенциал реализовывался в сложном характере общественных отношений, как на низовом уровне семейно-родовых групп, так и на самом высоком – в сообществах народов и государств.
Если принять такое положение вещей, то весь процесс человеческого бытия видится под очень странным углом, совсем не предусмотренным для нашего зрения. И тут опять можно вспомнить Пушкина, вернее, его героя, воссозданного Модестом Чайковским в опере «Пиковая дама». «Что наша жизнь – игра», – проникновенно пел главный герой в знаменитой опере. Игра? Ну а почему бы и нет. Вот только непонятно чья, если, конечно, не брать в расчёт расклады карточного стола. Уж верно, что не Германа и ему подобных, то есть всех нас.
Пифагорейские эмпирии
Пифагор утверждал, что всему сущему соответствует число. Согласно теории античного учёного числа управляют человеческими судьбами и скрывают тайны вещей и событий. Но если отвлечься от абстрактных рассуждений о числах и обратиться к конкретике, то тоже можно сделать весьма интересные наблюдения. Например, когда количество людей вокруг вас превышает некую критическую величину, на вас попросту перестают обращать внимание. В городской толпе вы и вовсе становитесь невидимкой для окружающих, зато вас, перешедших в иное числовое измерение сверхмалых величин, начинают замечать сущности, со схожим количественным индексом. И вот тогда вы и обнаруживаете, что в городе много дикорастущих трав и цветов, до которых, как и до вас, никому нет никакого дела. Что ветер гоняет по асфальту прошлогодние листья, которые не успели вовремя замести дворники. Что берега рек и каналов подёрнулись сине-зелёной взвесью микроскопических водорослей, бороться с которыми бесполезно в силу наличия у них числовой константы, определяющей срок их недолгой жизни. Что к вечеру в городе зажжётся счётное число фонарей, из которых наблюдаемы могут быть лишь немногие, находящиеся в отмерянном для вас числовом диапазоне. Но всё это очарование ранее незамечаемым исчезнет, когда вы вновь явите свою числовую значимость, став единичкой в многомиллионном человеческом множестве.
Какими же мудрыми всё-таки были индусы, обогатив теорию чисел Пифагора в первых веках новой эры спасительной и прекрасной добавкой – чистым, свободным и бесподобным нулём! «Единица – вздор, единица – ноль», – утверждал Маяковский. Неправ классик: ноль – это совсем другое! Ноль – это чистое созерцание, благостное пространство нирваны, для которой предписано именно такое неуловимое числовое значение. Да и убедиться в этом несложно: надо просто выйти на улицу и раствориться в городской суете.
«Он двух стихий жилец угрюмый»
Тот, кому подолгу случается смотреть на небо, становится невольным причастником этого воздушного океана. Когда человек оказывается не в состоянии вместить в земной мир своей дерзкой мечты, желанной свободы или безмерного чувства, мир становится ему тесен, и взоры человека обращаются к небу. «Один я здесь, как царь воздушный», – писал Лермонтов, мысленно устремляясь вслед за «тучками небесными, вечными странниками». Ему, которому даже было «тягостно земное счастье», презиравшему всё случайное и преходящее, искренне верилось, что подлинностью и совершенством обладают лишь звёзды в небесной пустыне, подвластной и внемлющей всесильному Богу. «Только завидую звёздам прекрасным, только их место занять бы хотел». «Признака небес» Лермонтов искал повсюду, и небеса неизменно отвечали ему, одаривая его «лавой вдохновенья», чтобы поэт смог создать «иной мир», неземной по своей сути, явив «образов иных существованье».
Но нельзя сказать, что «скучные песни земли» совершенно не находили ответного отклика в душе Лермонтова.
…Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум, и сердце полны,
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой,
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг, нижутся слова…
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Однако в русской поэзии, вслед за таким земным и вовлечённым во все земные дела Пушкиным, Лермонтов остался поэтом, для которого «небо и звёзды» значили, пожалуй, больше, нежели «желтеющая нива» или шумящий от ветерка «свежий лес». «Он двух стихий жилец угрюмый», – строчкой этого известного лермонтовского стихотворения можно было бы охарактеризовать и его самого. Поэтому Пушкин – наш великий национальный поэт, а Лермонтов более сопричастен нашему общему Мирозданью, нежели России и её народу.
Этюды белой ночи
В молодости я не прятался от белой ночи за тяжёлыми шторами, а шёл с этюдником в притихший и уставший от дневной жары город в надежде собрать её неверные сумеречные лучи в свой небольшой холст. И я не могу припомнить случая, чтобы бессонная ночь не подарила мне какой-нибудь интересный сюжет, придуманный ею специально для бродячих мечтателей, художников и фантазёров. Где бы я ни оказался: на Васильевском, в Коломне или на Петроградке, мне на глаза попадались вещи, невстречаемые прежде и несуществующие в дневной жизни. В опустевшем ночном городе я мог наблюдать длинные перспективы улиц, рек и каналов, увенчанных какой-нибудь изысканной доминантой, которая только в сиянии белой ночи становилась значимой и заметной. Неизвестно почему и невесть откуда, в пустых дворах обнаруживались декоративные вазы и маленькие фонтанчики, а узорчатые чугунные ограды, вопреки своему предназначению, вели меня в благоухающие скверы, полные кустов шиповника и цветущей сирени.
Пожалуй, из-за большого множества впечатлений, прежние образы местами поистёрлись и заметно потускнели, превратившись в смутные безличные реминисценции. Зато картины, написанные в соавторстве с белой ночью, я хорошо помню, и в душе моей они, как и прежде, рождают светлое и волнующее чувство. Стоит только сосредоточиться, отпустить воображение и вновь в моей памяти оживают их краски и запечатлённые на холсте формы.
Время этими работами распорядилось по-своему. Надеюсь, что они ещё где-то существуют и радуют их владельцев чудесными откровениями белой ночи, загадочной и фантастмагоричной, которая бывает только у нас, на берегах Невы. И наверное оттого, что я теперь спрятался от неё за тяжёлыми шторами, белая ночь мучит меня бессонницей и недужными грёзами, поскольку есть у неё ещё для меня немало тайн и интересных сюжетов. Либо зовёт меня туда, обратно, чтоб я смог вновь прикоснуться душою к тем отрадным пространствам и временам, где «фонтаны били голубые и розы красные росли»…
Без пяти двенадцать
Неизвестно зачем и почему моя память бережно хранит в своей оперативной доступности новогоднюю ёлку из детства, наряженную улыбчивыми снеговиками, мерцающими снежинками, расписными сосульками и стеклянными шарами, увитую цветным серпантином и усыпанную чуткой шелестящей мишурой.
И из всех её удивительных украшений мне более всего помнятся маленькие часики из тончайшего стекла с серебряным циферблатом и нарисованными на нём стрелками, указывающими без пяти двенадцать. Эти часики и раньше поражали меня своей хрупкостью и каким-то невыразимым ощущением тайны, словно именно в них были сокрыты все парадоксы времени и магические силы, управляющие судьбой. Я верил, что им известны все грядущие даты, все рубежные сроки и назначенные кануны, и, кроме того, они обязывали меня спешить, ибо отвели мне совсем немного времени до завершения предписанного ими дела, которому уже было отдано немало сил и которое давно ожидало своего завершения.
Я не знаю, куда подевались эти часы. Но я очень тревожусь за их сохранность. Пусть стрелки на роковом украшении и обозначают краткий временной интервал, и, казалось бы, этими минутами можно было бы беспрепятственно пренебречь, но ведь это же совершенно иное измерение времени, непосредственно связанное с пространством мечты и полем желаний, которым по воле чудодейственного новогоднего торжества обещано воплотиться в будущем. А если это не так, то тогда зачем придуман весь этот праздник чаемых ожиданий и больших надежд.
И я по-прежнему продолжаю верить, что все наши задуманные желания исполнятся, если только, конечно, не разобьются хрупкие ёлочные часы с нарисованными на них судьбоносными стрелками.