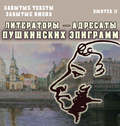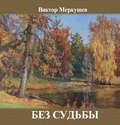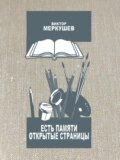Виктор Меркушев
Белый шум
«И сталкивающихся глыб скрежещущие пережёвы…»
Лёд шевелится внизу, как живой…
П. Якубович
Издали мне представлялось, что впереди, блистая белоснежной чешуёй, к водам Балтики спешит огромная ледяная змея. Но когда я оказался над остроугольной опорой моста, прежнее впечатление от движения ладожского льда по Неве рассыпалось, и воображение уступило своё место реальности, открыв передо мной эпическую картину неисчислимого множества плывущих по воде пожелтевших ледяных глыб. Было даже сложно представить, что все они некогда составляли единый озёрный материк, прочный и нерушимый, который, наверное, мог бы просуществовать целую вечность. Теперь же, спотыкаясь друг о друга и врезаясь в неодолимую опору моста, плывущие глыбы крошились, вертелись и переворачивались, послушно увлекаясь мощным напором невской воды всё дальше и дальше – в узкое горло залива, готовое принять их всех, невзирая на цвет, размер и нетоварную форму.
Я помню, как мороз предзимья накинул на Ладогу тонкий прозрачный плат, который был ещё очень ломкий и нежный, чем-то похожий на витраж из тонких слюдяных пластинок, спаянных между собой жидким водяным припоем. А после, уже в начале зимы, я уверенно выходил на окрепший лёд, через который хорошо просматривалось рельефное озёрное дно, с исполинскими валунами и стаями серебристых рыб.
Я, как верноподданный насельник холодной зимы, не находил ничего краше бескрайнего ледяного моста до Валаама, кружевной снежной бахромы на ледяных торосах и терпкого морозного воздуха над Ладогой, где от застывшей воды до неба кружились снежинки, являвшие свою ажурную прелесть, когда на мгновение касались моей ладони. Я отгонял от себя все неосторожные мысли о грядущей весне и наслаждался царством щедрой зимы, подарившей мне не только россыпи снежной мишуры и гирлянды мерцающих огоньков на прибрежных соснах, но и целый материк из чистого хрусталя, основательно выходящий за нечитаемый горизонт.
«Всё это твои иллюзии, – говорили мне окружающие люди, – вскорости лёд растает и наступит, наконец, наша долгожданная весна!»
А я был очарован зимой, её лиловым сумеречным светом, её снежными облаками и строгой графикой древесных витиеватых крон.
Впрочем, мне и без подсказок было известно, что всем подаркам зимы свойственна призрачность и скоротечность, несмотря на суровую печать вечности, которой отмечались все её удивительные чудеса. В противовес зиме, весна утверждала собой правду жизни, её здоровую прагматику, и слово «вечность» ей попросту было не к лицу, как бы ни желали того преданные ей люди. Весне лучше всего подходило слово «вещность», – слово надёжное, с полновесным материальным наполнением.
И когда потянуло влажным и промозглым теплом с озера, я понял, что начал рушиться мой зимний иллюзорный порядок, поскольку нет ничего убедительнее реальной полноценной весны. Скоро, очень скоро, всё обратится к нарождающейся новой жизни: весёлой, шумной, деятельной и энергичной, где будет непросто медлительным созерцателям, привыкшим наблюдать снежную феерию в морозной тишине собственного материка.
Я обернулся назад, туда, где разбуженный весной залив заглатывал глянцевое крошево измельчённого льда. Там в мутных воронках кружилась отяжелевшая от ладожской подати балтийская вода, а над всем этим невесслым пиром поднималась лиловая полупрозрачная дымка, словно зимняя душа моего чистого хрустального льда…
Следы
Я вполне осознанно стараюсь не наступать на чьи-то следы, но моя учтивость в этом вопросе оказывается излишней, ибо прямо за мной их уничтожает падающий снег или набегающая волна… А лучше всего справляется со следами присутствия человека – неумолимое время. Оно подчищает за человеком всё и это странно, поскольку приходится подозревать, что время здесь не вполне бесстрастно.
Но, наверное, это просто необходимый компонент жизни. Если бы нечто было не в состоянии исчезнуть, то перестали бы работать все причинно-следственные связи, запутавшись в сложный неразрешимый клубок. Нельзя было бы ничего забыть, потерять или предпочесть, поскольку каждая сущность являла бы себя во всей своей полноте, и никакой её частью было бы невозможно пренебречь. Новое было бы неотличимо от старого, случайное от необходимого. Обрушилась бы иерархия всех человеческих ценностей, восприятие притупилось, чувства ослабли, неспособные реагировать на множественность всё возрастающих обстоятельств, требующих нашего внимания и участия.
В этом отношении интересен диалог Раича с Пушкиным:
– Что с вами, Александр Сергеевич, – спросил я его, – о чём вы задумались?
– Есть о чём задуматься при мысли – что будет со мною, с моими произведениями?
– Если вы будете продолжать как начали, вы навсегда останетесь любимцем русской публики.
– О простота[1]. Любимцем русской публики, говорите вы; но разве эта русская публика не восхищалась в своё время Херасковым? Разве не хвалила она его так же безотчётно, безусловно, как меня! И что же теперь Херасков? Кто его читает?
Любопытно, предвосхитил ли тогда Пушкин в своём размышлении открытый двумя веками позже закон сохранения энтропии? Закон, который в современной физике называется законом сохранения информации, гласящий, что в замкнутой системе в процессе преобразования количество информации остаётся неизменным. А может быть, Александр Сергеевич вспоминал о том, что некогда написал Олосеньке Илличевскому: «Ах! ведает мой добрый гений, что предпочёл бы я скорей бессмертию души моей бессмертие своих творений». Как знать? Возможно, его действительно занимало в момент диалога с Раичем неизбежное преобразование Хераскова в Пушкина. С уверенностью рассуждать мы об этом не можем, но можем утверждать наверняка, что Раича сейчас точно никто не читает, и след его едва-едва заметен…
«…кому я, к чёрту, попутчик…»
От всей души люблю я вас,
Но ваши чужды мне забавы.
Е. Баратынский
«Вот неугомонный невольник ускользающего горизонта!» – думалось мне, когда я читал про Фёдора Матюшкина – Федернельку, как по-приятельски его называли лицеисты. Из благостного уюта Лицейского сада мечтал Федернелька о затерянных в холодных морях заповедных островах, колючих метелях и свирепых штормах. Недаром соученики дали ему ещё одно прозвище «Плыть хочется», видно и впрямь – очень хотелось Федернельке куда-нибудь плыть. Особенно далеко-далеко на Север, где, по мнению многих, скрывался таинственный материк – гиперборейская Арктида…
Я же, напротив, очень не хотел никуда плыть, а все мои мечты и фантазии были посвящены исключительно вариантам «dolce far niente», среди которых наиболее предпочтительным был беззаботный отдых в саду Императорского лицея, где можно было сладко подремать возле Виттоловского пруда или послушать как шумит ручей Орловского водовода. Однако не бывает так, что одним только шторма и метели, а другим – перманентное «dolce far niente». И пришлось-таки мне плыть прямо по следам Федернельки к далёким заснеженным островам, чтобы вкусить все прелести колючих метелей и пережить упоительную болтанку свирепых штормов.
Я, конечно, упирался как мог, нисколько не сочетаясь с Федернелькой по музам наших мечтаний. Единственным отправлением, являвшим схожесть с моим дальним попутчиком по приполярным морям, было воплощение на холсте и бумаге всего того, чему мы с ним не уставали искренне удивляться или восхищаться, увидев. Жалко только, что за этим наши линии судеб опять разошлись: всё, что сделал Матюшкин в морях Ледовитого океана общеизвестно, а вот мои рисунки и холсты, выражаясь словами Екатерины Великой, способны созерцать только «я да мыши».
Хотя, если по-честному, то мне-то и привелось открыть материк Арктиды, а не моему замечательному мореходу. А ведь как он старался, как пытливо заглядывал в каждый дремучий уголок – нет ли там чего-нибудь такого, что позволит ему радостно прокричать: «Нашёл!»
Ан нет, так и не случилось увидеть ему ничего особенного, что можно было бы приписать к фантастическим чудесам Арктиды. Только снег и ледниковые камни, унылые реки и бесцветные мхи. Но если бы он обнаружил всё то, что привелось наблюдать мне, то романтические воззрения XIX века наверняка бы приписали Матюшкину открытие таинственного материка, где некогда проистекала загадочная жизнь, где обитали и властвовали над природой суровые и мудрые гипербореи. Только не дано было увидеть Федернельке исполинские воронки в полях вечной мерзлоты, строгую геометрию мёртвых озёр в ладонях арктической пустыни, диковинные мегалиты, сложенные в умопомрачительные фигуры, отпечатки древних папоротников на заиндевелых скалах и ветвящиеся языки тысячелетних ледников, покрытых мерцающим панцирем морской соли…
Надо же незадача! А может быть и не нужно, чтобы все люди обо всём, что мне удалось увидеть, знали? Ведь никто ж из моих спутников по полярным поселениям не бродил с этюдником по пугающим окрестностям наших станций, не спускался к бушующему океану, не искал в снежном тумане экзотических впечатлений, чтобы, не мешкая, собрать их все воедино в свой походный холст. А раз так, то пускай Арктида так и остаётся неузнанной, и любоваться её чудесами буду по-прежнему только я. и мыши.
Снова о Шамбале
Всю свою жизнь Николай Рерих мечтал встретить мудрого старца, но тот почему-то уклонялся от встречи с художником, либо, действительно, не попадалось мудрых старцев на путях Рериха. В конце концов, Рерих сам стал мудрым старцем – не пропадать же такой заветной мечте! Но несмотря на то что ни одного мудрого старца он так и не встретил, Рерих не отчаивался, ибо была у него ещё одна сверхзадача. С неослабевающим упорством искал он в диких горах мир молчания и благоденствия, чудесную Шамбалу, не замечая, что этот волшебный мир всегда пребывал в нём самом, в его душе, полной благородных стремлений и чудесных даров отзывчивого воображения.
С юности мучила меня эта загадка. Не мог же Рерих с простодушием кузнеца Вакулы искать то, что искать не надо, поскольку оно всегда рядом и изнутри питает твои мысли и чувства. И я не понимал этого до тех пор, пока на собственном опыте не убедился, как бывает сложно удержать состояние внутреннего умиротворения под враждебным напором внешнего мира. Так всегда было и так, пожалуй, будет, если мы, наконец, не поймём подлинную суть человеческой природы, которая, если использовать математические термины – дискретна и сингулярна. И то и другое – сложно для понимания и со здравым смыслом соотносится плохо. В реальном нематематическом мире сингулярность, как правило, нестабильна, и этим легко объясняется невозможность надёжно укрыться во внутренней Шамбале, поскольку любое эмоциональное вторжение лишает нас её непрочной защиты.
Не заглядывая вглубь природной основы, люди давно озадачились поиском духовных практик, позволяющих преодолеть агрессивные вызовы и обезопасить свой уязвимый и хрупкий мир, которому придумано много названий, и Шамбала к нему подходит больше всего. Но никакие практики, никакая духовная борьба с мирскими соблазнами, никакая глубокая медитация не избавляют нас от настойчивого и неотступного внимания реального мира, которому всегда до нас есть какое-то дело и для которого слово Шамбала звучит как отчаянная попытка к бегству.
Вот и мне тоже очень бы хотелось встретить мудрого старца, чтобы испросить у него, как мне стать полноценным гражданином заветной Шамбалы, которая хоть и рядом, но так проницаема и так беззащитна. Самому становиться мудрым старцем, конечно, можно, но это всё равно не даст возможности получить ответа на этот архиважный вопрос.
Поэтому не стоит осуждать Рериха за его бесплодные странствия по диким горам и его безнадёжные поиски. Душа стремится и алчет невозможного – человек слышит зов спасительной Шамбалы и безотчётно стремится к ней навстречу. Вдруг да отыщется туда ещё один затерянный вход, ключей от которого больше ни у кого не будет.
Муза
она спасает нас от муки,
но счастья не прощает нам…
«Зовётся так воздушно – Муза…» Надежда Кремнёва
Она почти никогда не заходит к счастливым, сторонится успешных и облечённых властью. Может посетить сеятелей «разумного, доброго, вечного». Но зайти к этим сеятелям лишь затем, чтобы они вдруг не наделали грамматических ошибок, поскольку ей хорошо известно, что «разумное, доброе, вечное» воздушно-капельным путём не передаётся.
Однако она может легко откликнуться на зов обиженных, стеснённых нуждой или неправдой. Здесь она желанная и понятная гостья. И только с ними у неё может случиться благовременная беседа, избавляющая страждущих от душевных мук и страданий. Всё высказанное и воплощённое ими в строчки, Муза заберёт с собой, чтобы освободившиеся от пагуб бытия были способны как-нибудь жить дальше. Но всё равно будет ходить где-то неподалёку, чтобы незамедлительно прийти туда, где её снова будут ждать с упованием и надеждой…
«Славный снег! Какая роскошь!..»
Это – область чьей-то грезы,
Это – призраки и сны.
В. Брюсов
В отличие от салтыковского статского советника Иванова, неспособного вместить в себя пространных понятий, я, пытаясь постичь таковые, не лопнул, а лишь немного увеличился в объёме; и вовсе не по причине натужной умственной работы, а за счёт естественного превращения из подростка в юношу. Возможно, мне удалось избежать незавидной участи бестолкового статского советника благодаря своей осторожности, ибо я даже не пытался объять воображением сингулярную химеру бесконечности, а проявлял интерес к более представимым вещам – трансляционной и временной симметрии, а также материальным структурам, находящимся в состоянии абсолютного нуля. Мне отчего-то казалось, что они были неразделимо связаны между собой за гранью нашего мира, и нарушение этой связи привело к возникновению кварк-глюонной плазмы и положило начало времени и пространству.
Теперь же, после первых мгновений воплотившегося Мироздания, пробежали миллиарды лет и мои любимые симметрии с абсолютным нулём превратились в непредставимые сущности. Однако природа, в стремлении вернуться к своим изначальным образам, которые по-прежнему бережно хранятся в её подсознании, посылает на землю холодные шестиугольные кристаллики, собранные по всем правилам идеальной симметрии. Когда они невесомо парят в воздухе, природа впадает в блаженное забытьё, и ей мнится, что снова вокруг ничего нет – ни пространства, заселённого тёмным эфиром и яркими звёздами, ни бегущего в никуда времени…
Не от мира сего
Интересно, когда вас объявляют субъектом «не от мира сего», то хотят отказаться от общения с вами или, напротив, требуют, чтобы вы приняли приемлемую в обществе поведенческую модель? До сих пор не знаю, каким образом я должен реагировать на подобные замечания. В любой фразе с таким словосочетанием я, прежде всего, стараюсь обнаружить некий библейский смысл, но обычно не нахожу в высказываниях, обращённых ко мне, никаких параллелей с известными толкованиями от святых отцов, подробно объясняющих эти слова в Евангелие от Иоанна. Помнится, глубоко запали мне в душу строки епископа Михаила Грибановского о том, что нужно делать, когда тебя призывают опуститься с небес на землю, а ты противишься и совсем не хочешь. Архипастырь и просветитель учил, что надо «идти туда, к тому просвету, осваиваться с тем, что открывается через него, вживаться в его атмосферу, ткать из неё свои жизненные нити.»
Не знаю, каким видят этот желанный просвет мои товарищи по несоответствию дольнему миру, но я строго блюду наставление архипастыря и всякий раз, в минуты сомнений или душевной тревоги, убегаю в тот самый просвет, чтобы вжиться в его благодатную атмосферу.
Но надо сказать, что в моём случае атмосфера там чрезвычайно разреженная, вокруг громоздятся чёрные скалы и торосы из самосветящегося льда. Звёзд на тёмном фиолетовом небе почти не видно, а над изломанным дугообразным горизонтом лиловой узкой полоской зависла мутная дымка тумана, словно ядовитая гряда плотных кислотных облаков. Наверное, это очень далёкая от солнца планета, и здесь должен царить вечный мрак и холод, только мне почему-то необъяснимо тепло и так легко дышится, будто бы я нечаянно сбросил с себя тяжкий и бесполезный груз. Тут, на планете, кроме меня никого нет, однако мне совершенно не одиноко, напротив, я бесконечно рад такому безмолвному и безлюдному миру. И это странно, поскольку архипастырь утверждал, что не нужно «рваться куда-то в беспредельную звёздную даль, в неизвестные пространства солнц и созвездий» в попытке отыскать свой заветный и желанный мир.
Это неочевидно, но, скорее всего, словосочетание «не от мира сего» следует понимать буквально. Иначе как объяснить, что мне так мила та далёкая планета, с беззвёздным небом и самосветящимся льдом.
Необъяснимое счастье
О счастье мы всегда лишь вспоминаем…
И. Бунин
Если бы меня спросили, какой день своей жизни я считаю самым счастливым, то я бы серьёзно задумался, перебирая в памяти события, даты и впечатления. Но если бы вопрос о сроках охватывал годы, то я бы без колебаний указал на время, которое провёл на дальних северных островах. Нет, ни детство, ни юность не оставили во мне столько сильных эмоций и счастливых переживаний, сколько принесли тысячелетние льды, спящие в горных расщелинах, холодные скалы и огромные зеркала безымянных озёр. Только там я смог понять, что такое земля и вода, осознать всю мощь океана, увидеть буйство штормов и прочувствовать бездонную глубину полярного безмолвия. Только там я мог видеть, как солёные ветра собирают с заснеженных островов ледяную крупу и несут её по застывшим проливам к берегам далёкого материка, имел возможность следить за тем, как в июне разрушается ледяной панцирь земли и в конце августа на арктические пустыни ложится свежий пушистый снег. Конечно, кто-нибудь скажет, что это – никакое не счастье, и счастье выглядит совсем по-другому. Но только кто может утверждать, что хорошо помнит его лицо, ибо счастье никогда не заглядывает людям в глаза, а лишь осторожно и незаметно проходит рядом. Тем более не позволяет себя рассмотреть там, где его совсем не ожидаешь встретить.
Песня ручья
Я и заметил-то его не сразу, потому что он был почти невидим среди бурелома и густых зарослей кустарника, которым поросла вся лесная лощина. Но возле ледниковых валунов, покрытых узорчатым пледом цветущей мшанки, он таки проглянул своим подвижным телом, превращённым быстрым течением в студенистую змейку, покрытую яркой мерцающей чешуёй.
Я остановился и всем своим существом погрузился в его звенящее и негромкое пение. Если не вслушиваться в его мелодичные звуки, то песня ручья может показаться вам обычным журчанием. Но если полностью погрузиться в его звуковую палитру, то может случиться так, что вы глубоко проникнетесь услышанным, различив в сложном переплетении переливчатых гармоник и пронзительных обертонов великое множество чистых мотивов, присущих магической и величественной музыке леса. И пусть она глубоко и надёжно войдёт к вам в душу, чтобы там навсегда и остаться, обогатив внутренний мир уникальным голосом природы. Возможно, это вам поможет потом лучше понимать древний язык природы, на котором она всечасно говорит с нами. А мы её плохо понимаем, не слышим её подсказок и настойчивых обращений. Мы всегда куда-то спешим, и нам не хватает даже нескольких минут, чтобы, забыв обо всём, молча постоять около лесного ручья, когда вдруг судьба нечаянно занесёт нас в настоящий лес.
Осторожно, листопад
В пору моей студенческой юности на оживлённых перекрёстках стояли таинственные будки-киоски, за стёклами которых красовались удивительные таблички: «Осторожно, листопад».
Меня крайне тревожили эти странные предупреждения, но узнать, отчего я должен остерегаться осеннего листопада, было не у кого, поскольку все неразъяснимые киоски привычно стояли пустыми. Не уверен, что ещё кто-нибудь был озабочен этой странной проблемой. Мне отчего-то казалось, что все остальные люди глубоко погружены в тему и по этой причине ревностно соблюдают известные им правила предосторожности, дабы не попасть под пагубы зловещего листопада.
А мне нравился листопад, и всякий падающий с дерева лист я воспринимал как некое значимое послание, адресованное мне лично.
Чего только я не придумывал, глядя на замысловатые узоры пожелтевших листьев, пытаясь понять эти дивные природные письмена. Что там было – секреты ли предвечерних сумерек или сопутствующие смыслы моросящего дождя, так и оставалось для меня тайной, но смысл человеческого послания на причудливых табличках мне был предельно ясен: моя повседневная жизнь надёжно защищена от любых невзгод, если уж меня желают уберечь от совершенно безобидных падающих листьев. Одно это заставляло меня счастливо смотреть в мир и верить в своё безоблачное «завтра».
Сейчас, глядя из того предуготованного «завтра», я больше не вижу знакомых табличек. И это тревожит меня ещё больше, чем некогда их появление. Но я по-прежнему жду осеннего листопада, чтобы так же, как в юности, попытаться осмыслить и понять его мистические послания. И, может быть, теперь мне удастся узнать, отчего я тогда ощущал себя так уверенно и защищённо.