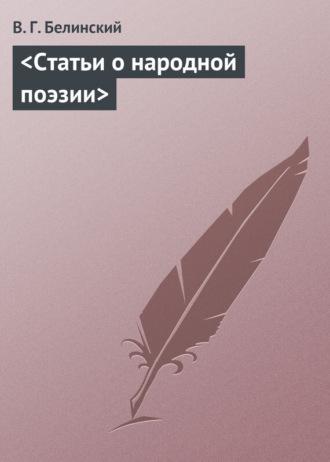
В. Г. Белинский
Статьи о народной поэзии
Мы взяли бы на себя слишком смелый и тяжелый труд, если б захотели объяснить удовлетворительно смысл великого мифа о «Прометее», и потому довольно будет намекнуть на него. Прометей и Зевес – это божество, разделившееся на самого себя, это сознание, распавшееся на две стороны, которые, по закону диалектического развития, враждебно стали одна к другой. Зевес – это непосредственная полнота сознания; Прометей – это сила рассуждающая, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости. Зевес восстал на отца своего, Крона, с громами и молниями; Прометей восстал на Зевеса с мыслию и словом. Прометей вправе был сказать своему могучему противнику: «Ты сердишься, Юпитер: следовательно, ты не прав!» И потому Зевес мог его уничтожить, но не устрашить и не преклонить. Горделивое, полное сознания своего достоинства и своей правоты самоотвержение Прометея было оправданием его пророчества о конце власти Зевеса: Зевес не прав, и потому должен будет уступить свое владычество другой, более справедливой власти. Что же значит коршун, терзавший беспрестанно сраставшиеся внутренности похитителя небесного огня? – На это у Эсхила лучший ответ дает сам Прометей: «Я в мыслях пожираю сердце мое!» Это грустная дума, как червь, грызущая сердце и подтачивающая корни жизни; это муки распадения. Зевес не прав, но он еще существует, и власть его еще сильна: он еще мстит своему противнику. Зачем же он силен, если он не прав? Затем, что Прометею суждено только начать великое дело, а не кончить его; он только очистительная жертва общего дела, а не торжествующий победитель; он дал движение сознанию, которое без него коснело бы в недеятельности, но он еще не видел результата сознания; он начал борьбу, по не ему суждена полная победа. Что же такое огонь, похищенный Прометеем с неба и сообщенный им людям? – Это мысль, сознание, пробудившее людей от мертвого сна животной непосредственности. Прометей дал знать людям, что в истине и знании и они – боги, что громы и молнии еще не доказательства правоты, а только доказательства неправой власти. Пробуждено сознание в людях, – и падение Зевеса уже неизбежно; рано или поздно, но алтари его сокрушатся, и колени смертных преклонятся пред богом правды и истины, любви и милости… Глубоко знаменательный миф, необъятный, как вселенная, вечный, как разум!..
«Прометей» Гете, в некотором смысле, есть поэтический комментарий на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснее, определеннее, развитая подробнее, и вместе с тем мысль, получившая новую силу и новое значение вследствие всемирно-исторического развития. Борьба идеи с авторитетом не кончилась с Прометеем: она не раз возобновлялась и даже едва ли решена и теперь. Достоверно можно сказать только, что вопрос теперь вполне уяснился, и Прометеи нашего времени заранее торжествуют победу и уже не боятся хищного коршуна. От этого «Прометей» Гете имеет для нас значение самобытного создания, и по преимуществу есть поэма нашего времени. Мы слишком отдалились бы от своего предмета, если б стали излагать содержание великой поэмы Гете; но следующий отрывок может намекнуть на ее основную мысль. Прометей начисто отказывает Меркурию в повиновении богам; Меркурий напоминает ему, что они заботились о нем, когда он был дитятею; Прометей ему отвечает:
За это тешились они
Моим повиновеньем
И мной, ребенком, управляли
По ветру прихотей своих.
Меркурий
Они тебе защитой были.
Прометей
А от чего? – от бедствий,
Перед которыми дрожали сами?
Они предохранили разве сердце
От змей, меня снедавших втайне?
Они ли оковали силой грудь
На страх титанам?
Не время ль мужем сделало меня,
Всесильное, единственное время,
Наш общий властелин?
Меркурий
Несчастный! ты богам бессмертным
Дерзаешь это говорить?
Прометей
Богам? – А я не бог?..
Всесильные? Бессмертные?
Ну, что вы?
Вы можете ли все пространство
И неба и земли
В деснице заключить моей?
Властны ли вы
Меня от самого себя отторгнуть?
Вы можете ли увеличить,
Распространить меня на целый мир?
Меркурий
Судьба!
Прометей
Ее могущество
Ты, стало, признаешь?
Я также.
Иди, я не служу рабам!{54}
Недаром боги греческие признавали над собою неотразимую власть судьбы: судьба – это была та темная граница, за которую не переступало сознание древних; христианство перешагнуло через эту границу, – и последний, великий язычник Юлиан{55} тщетно силился поддержать всею силою своего гения сокрушающиеся алтари богов: они пали сами собою…
«Илиада» – народное произведение; но посмотрите, как общи элементы этого, дивного создания древности! Оставляя в стороне его основную мысль, оставляя в стороне всех других героев, взглянем только на Ахилла. Рьяный и могучий герой, он тяжко оскорблен Агамемноном; он мог бы вызвать его на бой, как равный равного, как царь царя; он победил бы его, как герой и полубог, а если бы и пал сам, по крайней мере не пережил бы позора обиды. И что же? Он удаляется в шатер, играет на лире и льет тихие слезы… Что ему победа и отмщение? ему нужна справедливость; его сердце страждет не от бессилия, а от несправедливости; ему нужна не победа, а справедливость со стороны обидчика..» Видите ли вы здесь «человека» в эпоху зверского героизма?.. Убит друг его юности, брат его сердца, – он, могучий, бросается на землю, покрывает пеплом свою прекрасную главу, бьет себя в перси, горько рыдает, не зная сна и пищи. Но наступила минута – и он восстает, страшный, могучий, – и горе тебе, Гектор, убийца Патрокла! Двенадцать полоненных юношей принесено в жертву горестной тени Патрокла: связанные, пали они от копья Пелида… Зверство! – скажете вы; но тогда было время зверства, и тем утешительнее видеть проблески человечности в самых зверях-людях. Мщение не утоляет тоски Ахилла: много принесено кровавых жертв Патроклу; сам убийца его, Гектор, пал от руки Ахилла, а Ахилл по-прежнему не смыкает глаз, стеня и рыдая… Только раз сомкнулись на минуту очи героя – и ему явилась бледная, молящая тень безвременно погибшего друга —
Призрак величием с ним и очами прекрасными сходный;
Та ж и одежда, и голос тот самый, сердцу знакомый!
Бесщадно губя троян, Ахилл встречается с одним из Приамовых сыновей: обнимая колени губителя, молит его несчастная жертва о пощаде и жизни, обещая за себя богатый выкуп:
. . . . . но услышал не жалостный голос:
«Что мне вещаешь о выкупах, что говоришь ты, безумный?
Так, доколе Патрокл наслаждался сиянием солнца,
Миловать Трои сынов мне иногда бывало приятно,
Многих из вас полонил и за многих выкуп я принял.
Ныне пощады вам нет никому, кого только демон
В руки мои приведет под стенами Приамовой Трои!
Всем вам, троянам, смерть, и особенно детям Приама!
Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?
Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!
Видишь, каков я и сам: и красив и величествен видом,
Сын отца знаменитого; матерь имею богиню!
Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть;
Смерть придет и ко мне поутру, ввечеру или в полдень,
Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет,
Или копьем поразив, иль крылатой стрелою из лука».
(Песнь XXI){56}
Кто не увидит в этом героя и полубога? А героическое и божественное только в общем, в идее. Но «Илиада», как и все произведения Греции, нейдет в пример народной поэзии, полной элементов «общего»: в греческой поэзии совершился процесс гармонического уравновешения идеи с формою, и потому греческая поэзия, будучи народною, в то же время и художественна в высшей степени и не в пример другим. Если мы ссылались на нее, то для того, чтоб яснее, живым фактом, объяснить читателям, что мы разумеем под «элементами общего» в искусстве. Теперь мы можем обратиться к поэзии чисто народной, совершенно естественной, но в то же время и полной «элементами общего», – к поэзии народов тевтонского племени, представителей новейшего европеизма. Здесь мы будем кратки, ибо после предшествовавших объяснений нам достаточно самых легких указаний. Итак, прежде всего просим читателей вспомнить разбор наш Тегнерова «Фритиофа», переведенного по-русски г. Гротом[8]{57}. Действие этой поэмы происходит во времена варварства; но сколько человеческого, великого, возвышенного совершается в это время варварства! Какие дивные семена мысли кроются в делах, чувствах и воззрении на жизнь этих полудиких скандинавов! Это мир рыцарства в зародыше, это мир великих подвигов, благородного самоотвержения, обожания чести, славы и красоты, мир доблести, любви, верности обетам, неизменяемости клятв, мир возвышенных страстей, стремление к бесконечному, общественной нравственности! Чтоб не зайти далеко в отступление, укажем только на ответ Фритиофа пестуну его, представлявшему ему несбыточность его надежд, высокость сана обожаемой им женщины:
Нет, женам мужество любезно,
И сила стоит красоты!
Итак, для этих диких сынов Севера уже было решено, что красота – великое явление духа, что ей все жертвы, все обожание, что ей и сладчайшие надежды пылкой юности, и умиленный восторг седой старости… Да, для этих разбойнических орд, грабивших Европу, вопрос о достоинстве красоты был уже решен… Кто же зародил в них этот вопрос? кто решил его им? – Никто; по крайней мере, не они: все это было непосредственным проявлением субстанции их духа… Итак, красоте отданы все ее права: варвар-норманн настаивает только на том, что и мужество стоит красоты… Следовательно, по его понятию, женщина была не хозяйка, а представительница красоты на земле, вдохновительница на высокие подвиги и награда за них; мужчина не хозяин, а представитель силы и могущества, подвигоположник; тот и другая вместе – дуб, осеняющий широколиственными ветвями прекрасную розу… Какое верное понятие об отношениях полов! в нем видна мысль…
Теперь скажем, или, лучше, перескажем одну немецкую богатырскую сказку; – это же и кстати, потому что сейчас нам должно будет говорить о русских сказках. – В мифические времена Германии, гораздо задолго до Тацита, оставившего нам известия о древнегерманском быте, жил богатырь, огромный, преогромный до того, что высочайшие сосны и дубы, которые вырывал он с корнем могучею рукою, едва годились ему на посохи. У этого богатыря был друг, тоже великий богатырь; и еще была у него – как бы сказать? – по-нашему, по-русски – любовница, или полюбовница, а по-немецки Geliebte – возлюбленная. (Кстати: наши русские слова «любовник» и «любовница» ужасно опошлились, так что дерут уши, а «возлюбленный» и «возлюбленная» немного отзываются «высоким слогом»…) И вот Geliebte, или возлюбленная богатыря влюбилась в его друга, да и давай преследовать его своею любовью; но, верный дружбе, честный богатырь с богатырскою решимостию отвергнул ее любовь. Оскорбленная отказом, она заменяет любовь мщением и клеветами; докуками, ласками доводит своего мужа до того, что он убивает своего друга сонного… Но это было с его стороны не злодейством, а минутою слабости; поддавшись обаянию любимой женщины, он вдруг просыпается в сознании своего ужасного преступления. «Поди от меня прочь! – говорит он обольстительнице, – ты не нужна мне больше; из любви к тебе я сделал злодейство – убил моего друга, моего брата; после этого я не могу ни любить тебя больше, ни жить!» И на могильном холме своего друга он принес себя в жертву его оскорбленной тени…{58}
Из нашего короткого пересказа этой трагической легенды читатели поймут, в чем дело, – и в грубой сказке увидят основания человечности, элементы «общего»… После этого понятно, как могла у немцев явиться такая великая{59} художественная литература: для нее была готова родная почва, богатая дивными семенами…
Теперь мы можем обратиться к русской народной поэзии на основании сборников, заглавия которых выставлены в начале этой статьи.
Статья III
Поэзия всякого народа находится в тесном соотношении с его историею: в поэзии и в истории равным образом заключается таинственная психея народа, и потому его история может объясняться поэзиею, а поэзия историею. Мы разумеем здесь внутреннюю историю народа, которою объясняются внешние и случайные события в его жизни. Но как есть народы, существовавшие только внешним образом, то их поэзия может служить не объяснением их истории, а только объяснением ничтожества их истории. Источник внутренней истории народа заключается в его «миросозерцании», или его непосредственном взгляде на мир и тайну бытия{60}. Миросозерцание народа выказывается прежде всего в его религиозных мифах. На этой точке, обыкновенно, поэзия слита с религиею, и жрец есть или поэт, или истолкователь мифических поэм. Естественно, эти поэмы самые древнейшие. В век героизма поэзия начинает отделяться от религии и составляет особую, более независимую область народного сознания. За героическим периодом жизни народа следует период гражданской и семейной жизни. На этой точке поэзия делается вполне самостоятельною областию народного сознания, переходит в действительную жизнь, начинает совпадать с прозою жизни, из поэмы становится романом, из гимна песнию; тогда же возникает и драма, как трагедия и комедия. В последнем периоде поэзия из естественной, или народной, делается художественною. Если же народ, пережив мифический и героический период своей жизни, не пробуждается к сознанию и переходит не в гражданственность, основанную на разумном развитии, а в общественность, основанную на предании, и остается в естественной бессознательности семейного быта и патриархальных отношений, – тогда у него не может быть художественной поэзии, не может быть ни романа, ни драмы. Эпопею его составляют сказка и историческая песня, которой характер, по большей части, опять-таки сказочный. Сравнение казацких малороссийских песен с русскими историческими песнями лучше всего подтверждает нашу мысль: характер первых– поэтически-исторический; характер вторых, как мы увидим далее, чисто сказочный, и притом больше прозаический, чем поэтический. Лирическая поэзия всякого, хоть бы и гражданского, но еще не сознавшего себя общества состоит только в песне – простодушном излиянии горя или радости сердца, в тесном и ограниченном кругу общественных и семейных отношений. Это или жалоба женщины, разлученной с милым сердца и насильно выданной за немилого и постылого, тоска по родине, заключающейся в родном доме и родном селе, ропот на чужбину, на варварское обращение мужа и свекрови. Если герой песни мужчина, тогда – воспоминание о милой, ненависть к жене, или ропот на горькую долю молодецкую, или звуки дикого, отчаянного веселия – насильственный мгновенный выход из рвущей душу тяжелой тоски. Таково, по большей части, содержание всех русских народных песен. Это содержание почти всегда одно и то же; разнообразия и оттенков чувства нет, а мысль вся заключается в монотонном и простодушном чувстве. Такая поэзия лучше самой истории свидетельствует о внутреннем быте народа, может служить меркою его гражданственности, поверкою его человечности, зеркалом его духа. Такая поэзия нема и бесполезна для людей чуждой нации и понятна только для того народа, в котором родилась она, – подобно бессвязному лепету младенца, понятному и разумному только для любящей его матери.
В мифической и героической поэзии народа заключается субстанция его духа, по которой, как по данному факту, можно судить о том, чем будет народ, что и как может из него развиться впоследствии. Здесь слова «что» и «как» показывают историческую судьбу народа: так, например, мы увидим ниже, что из памятников русской народной поэзии можно– доказать великий и могучий дух народа… Вся наша народная поэзия есть живое свидетельство бесконечной силы духа, которому надлежало, однако ж, быть возбуждену извне. Отсюда понятно, почему величайший представитель русского духа – Петр Великий, совершенно отрывая свой народ от его прошедшего, стремясь сделать из него совсем другой народ, все-таки провидел в нем великую нацию и не вотще пророчествовал о ее великом назначении в будущем. Отсюда же понятно, почему величайший и по преимуществу национальный русский поэт – Пушкин воспитал свою музу не на материнском лоне народной поэзии, а на европейской почве, был приготовлен не «Словом о полку Игоревом», не сказочными поэмами Кирши Данилова, не простонародными песнями, а Ломоносовым, Державиным, Фонвизиным, Богдановичем, Крыловым, Озеровым, Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским и Батюшковым – писателями и поэтами подражательными и нисколько не национальными, за исключением одного Крылова, которого басни, будучи национальными, все-таки не суть вполне самобытное явление, ибо их образцы найдены Крыловым не в народной поэзии, а у француза Лафонтена{61}. Такова естественная поэзия всех славянских племен: богатая чувством и выражением, она бедна содержанием, чужда элементов общего, и потому не могла сама собою развиться в художественную поэзию. Если русские, и, может быть, еще чехи, могут гордиться несколькими великими или примечательными поэтическими именами, – они первоначально обязаны этим соприкосновенности своей истории к истории Европы и усвоенным у Европы элементам жизни. Прочие славянские племена – болгары, сербы, далматы, иллирийцы и другие остались при одной народной поэзии, которая бессильна возвыситься на степень художественной. Что же касается до малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно тогда только, когда лучшая, благороднейшая часть малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать тропака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустив оселедец, – словом, из состояния цивилизации, образованности и человечности (приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россиею) снова обратится к прежнему варварству и невежеству. Литературным языком малороссиян должен быть язык их образованного общества – язык русский. Если в Малороссии и может явиться великий поэт, то не иначе, как под условием, чтоб он был русским поэтом, сыном России, горячопринимающим к сердцу ее интересы, страдающим ее страданием, радующимся ее радостию. Племя может иметь только народные песни, но не может иметь поэтов, а тем менее великих поэтов: великие поэты являются только у великих наций, а что за нация без великого и самобытного политического значения? Живое доказательство этой истины в Гоголе: в его поэзии много чисто малороссийских элементов, каких нет и быть не может в русской; но кто же назовет его малороссийским поэтом? Равным образом, не прихоть и не случайность заставили его писать по-русски, не по-малороссийски, но глубоко разумная внутренняя причина, – чему лучшим доказательством может служить то, что на малороссийский язык нельзя перевести даже «Тараса Бульбу», не только «Невского проспекта». Правда, содержание «Тараса Бульбы» взято из сферы народной жизни, но в нем автор не был поглощен своим предметом: он был выше его, владычествовал над ним, видел его не в себе, а перед собою, и потому во многих местах его рассказа заметен его личный взгляд, его субъективное воззрение; эти-то места и нельзя передать на малороссийское наречие, не опростонародив, так сказать, не омужичив их, – не говорим уже о том, что вся повесть, исключая разговоров действующих лиц, написана литературным языком, каким никогда не может быть язык малороссийский, сделавшийся теперь провинциальным и простонародным наречием{62}.
Мы сказали, что племя или даже народ, еще не пробудившийся из естественного состояния к самосознанию, может иметь только народные поэмы и песни, но не может иметь поэтов, а тем более – великих поэтов. Истина этого положения доказывается самыми фактами. Кроме греков, которые по причинам, изложенным нами во второй статье, не могут служить примером, когда дело идет о чисто народной (в смысле естественной, непосредственной) поэзии, – кроме греков, у всех народов или мало известны, или и совсем не известны творцы народных произведений; но везде сам народ является их творцом. Разумеется, всякое отдельное народное произведение было обязано своим началом одному лицу, которое, с горя или с радости, вдруг запело его; но, во-первых, это лицо, сочинив, или, говоря его собственным языком, сложив песню, само не знало, что оно – поэт, и смотрело на свое дело не как на дело, а скорее как на безделье от нечего делать; во-вторых, песня, переходя из уст в уста, претерпевала много изменений, то увеличиваясь, то убавляясь, то улучшаясь, то искажаясь, смотря по степени присутствия или отсутствия поэтического чувства в певших ее. Если у народа нет письмен, – его поэтические произведения по необходимости хранятся в народной памяти и изустно передаются от поколения к поколению; если у народа есть письмена, – его поэтические произведения опять-таки хранятся в памяти и живут в «устах его, потому что народ, не возросший до самопознания, почитает унижением для высокого искусства писания заниматься «пересыпаньем из пустого в порожнее», то есть поэзиею. Так по крайней мере было на Руси, хотя и не так было даже у восточных народов – индусов, арабов, персов, китайцев и других. Какие бы ни были причины этого явления, но автором русской народной поэзии является сам русский народ, а не отдельные его лица, – и скудная сокровищница его произведений состоит большею частию из бесчисленных вариантов слишком немногих текстов{63}. Обратимся к ним и начнем с эпических произведений.
Эпические поэмы бывают трех родов: космогонические и мифические, в которых выражается непосредственное воззрение народа на происхождение мира, религиозные и философические созерцания; сказочные, в которых видна особенность народной фантазии и которые составляют эхо баснословно-героического быта младенчествующего народа, и исторические, в которых хранятся поэтические предания об исторической жизни народа, уже ставшего государством. Первых, то есть космогонических и мифических, у нас нет почти совсем, а если б что в этом роде и нашлось со временем, так едва ли стоит внимания. Причина очевидна: мифология, всех славян вообще, особенно северо-восточных, играла в их жизни слишком незначительную роль. Одно слово великого князя киевского могло в один день и навсегда уничтожить наше язычество{64}. Его подданные как будто чувствовали, что не из чего хлопотать и не за что стоять, а все люди уж так созданы, что из ничего и не бьются. Одна уже мысль Владимира послать послов во все земли для узнания чужих вер достаточно указывает на отсутствие всякого своего верования, которое имело бы какую-нибудь субстанциальную действительность. Хотя г. Сахаров в своей книге «Сказания русского народа» и сильно восстает против Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова за искажение славяно-русской мифологии; но его, впрочем энергическое, восстание доказывает только, что совершенно не из чего и не за что было восставать. Г-н Сахаров признает истинными славянскими богами только тех, о которых упоминается в хронике Нестора, а в ней упоминается, и то вскользь, мимоходом, только о семи богах (Перуне, Волосе, Даждьбоге, Стрибоге, Семергле, Хрсе и Мокоше), почти без всякого объяснения их значения, атрибутов, обрядов богослужения и пр. Г-н Сахаров ожидает от будущих трудов наших археологов великих открытий и пояснений касательно славянской мифологии: что касается до нас, мы ровно ничего не ожидаем, по самой простой причине: археология прекрасная наука, но без данных, без фактов, она решительно ни к чему не служит, потому что, как ни мудрите, а из ничего не добьетесь ничего… Итак, этот предмет в сторону – на нет и суда нет; а если когда что найдется, так мы тогда и поговорим.
Древнейший памятник русской народной поэзии в эпическом роде есть, без сомнения, «Слово о полку Игореве». Хоть известно несколько сказок, в которых упоминается о великом князе Владимире Красном солнышке, о его знаменитых богатырях – Добрыне, Илье Муромце, Алеше Поповиче и пр., но эти сказки явно сложены в гораздо позднейшее время, после татарского владычества: в них нет ни малейшего признака язычества, которое, каково бы оно ни было, не могло же не отразиться хоть внешним образом в современной ему эпохе, когда христианство еще не успело утвердиться в народе. В этих же сказках незаметно ни малейшей смеси языческих понятий с христианскими. Мало этого: дух и тон этих сказок явно отзываются новейшим временем, когда Русь была уже переплавлена горнилом татарского ига в единое государство. Какая-то прозаичность в выражении, простонародность в чувствах и поговорках царствует в этих сказках. Ничего этого нет и тени в «Слове о полку Игореве»: это произведение явно современное воспетому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и человечного духа Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма татарщины, чуждой грубости и дикости Северной Руси. В «Слове» еще заметно влияние поэзии языческого быта; изложение его более историческо-поэтическое, чем сказочное; не отличаясь особенною стройностию в повествовании, оно отличается благородством тона и языка. Понятно, как некоторым, – могла прийти в голову мысль, что это произведение есть подделка вроде Оссиановых поэм:{65} в нем боярыни не пьют зелена вина, не бьют друг друга; нет площадных выражений, нет чудовищных образов, нет признаков тех грубо мещанских обычаев, которыми преисполнен сборник Кирши Данилова.
«Слово о полку Игореве» подало повод к жестокой войне между нашими археологами и любителями древности: одни видят в нем дивное произведение поэзии, великую поэму, благодаря которой нам нечего завидовать «Илиаде» греков; другие отвергают древность его происхождения, видят в нем позднейшее и притом поддельное произведение; третьи не видят в «Слове» никакого поэтического достоинства{66}. Что касается до нас, мы решительно не согласны ни с теми, ни с другими. «Слово о полку Игореве» так же похоже на «Илиаду», как славяне его времени на греков, а Игорь и Всеволод на Ахилла и Патрокла. Певца «Слова» так же нельзя равнять с Гомером, как пастуха, прекрасно играющего на рожке, нельзя равнять с Моцартом и Бетховеном. Но тем не менее это – прекрасный, благоухающий цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения. Что же касается до того, точно ли «Слово» принадлежит XII или XIII веку{67}, и не поддельно ли оно – об этом странно и спрашивать: на подобные вопросы сама поэма лучше всего отвечает, и вольно же скептикам судить о ней по разным внешним соображениям, а не на основании самой поэмы!
Очень жаль, что, имея «Слово о полку Игореве» вполне, мы должны читать его отрывками, потому что многие места его искажены писцом до бессмыслицы, а некоторые темны потому, что относятся к таким современным обстоятельствам, которые вовсе непонятны для русских XIX века{68}. Да и притом, кто поручится, что в единственной найденной рукописи «Слова» не пропущены целые места? Кому случалось читать в рукописях ходячие по рукам поэмы Пушкина, тот не будет удивляться искажению «Слова» каким-нибудь безграмотным и невежественным писцом XIV-го или XV-го века{69}. Если по одному из подобных списков надо было восстановить через два столетия текст, например, хоть «Кавказского пленника», то восстановитель принужден был бы отказаться от такого несовершимого подвига. А что бессмыслицы и темноты «Слова о полку Игореве» принадлежат не его автору, а писцу – неопровержимым доказательством этому служат поэтические красоты в подробностях и интерес целого повествования поэмы. Но восстановить текста нет никакой возможности: для этого необходимо иметь несколько рукописей, которые можно было бы сличить. Хоть наши любители русской старины не только пытались объяснить и переводить сомнительные места в поэме, но и остались в уверенности, что успели в этом, однако ж мы тем не менее должны отказаться от мысли видеть в «Слове» полное и целое сочинение. Для доказательства справедливости нашей мысли приводим здесь значительную часть бессмыслиц и темнот.
Помняшеть бо пръвых времен усобице; тогда пущашеть 10 соколов на стадо лебедей который дотечаше, то преди песнь пояше, старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред пълки касожьскыми, красному Романови Святъславличю{70}.
В первом издании 1800 года «Слова о полку Игореве» это место переведено так: «Памятно нам по древним преданиям, что, поведан о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным: чей сокол скорее долетал, тому прежде и речь{71} начиналася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю перед полками косожскими, или красному Роману Святославличу». Очевидно, что это перевод произвольный, основанный на неудачной догадке, – перевод мысли, которой нет в тексте; к тому же в этом переводе нет логического смысла, хотя и есть смысл грамматический{72}. Шишков, переделавший «Слово» в реторическую поэму наподобие «Гонзальва Кордуанского» или «Кадма и Гармонии»{73}, объясняет это место с большею основательностию, но все-таки произвольно, – и если в его переводе есть смысл, зато текст все-таки остается без смыслу. Вот его перевод: «Из древних преданий известно нам, каким образом славные во бранях князья и полководцы решали состязание свое о преимуществе. Десять мужей выезжали на чистое поле, каждый с соколом в руке; они пускали их на стадо лебединое: чей сокол скорее долетал, тот и первенство одерживал, тому и песнь воспевалася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю пред полками косожскими, либо благозрачному Роману Святославичу».
Тогда Игорь възре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя вой прикрыты…
Перевод: «Тогда взглянул он на солнце светлое и, увидев мраком покрытое все войско свое, произнес…»{74} Шишков: «Но Игорь пребывает непоколебим в намерении своем; не устрашает его грозное чело нахмуренной природы…» Текст стоит перевода, и переводы стоят текста!..
Спала князю умь похоти, и жалость ему знамение заступи, искусити Дону великаго.
Перевод: «Пришло князю на мысль пренебречь худое предвещание и изведать счастья на Дону великом». Шишков совершенно изменил это место, переделав его в высокопарную шумиху слов и фраз{75}.
Солнце ему тъмою путь заступаше.
Перевод: «Солнце своим затмением преграждает путь ему». Шишков: «Помрачась, мешало ему идти». Если так переводить, то, конечно, нет на свете бессмыслицы, которой бы нельзя было перевести и ясно и красноречиво…
О русская земле! уже не шеломенем еси.
Перевод: «О русские люди! уже вы за шеломянем». Шишков переводит так же{76}.







