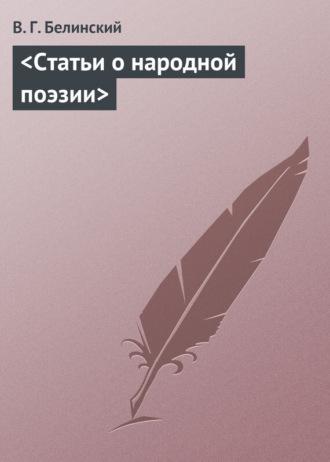
В. Г. Белинский
Статьи о народной поэзии
Мы выше сказали, что «Слово о полку Игореве» резко отзывается южнорусским происхождением. Есть в языке его что-то мягкое, напоминающее нынешнее малороссийское наречие, особенно изобилие гортанных звуков и окончания на букву ъ в глаголах настоящего времени третьего лица множественного числа. Но более всего говорит за русскоюжное происхождение «Слова» выражающийся в нем быт народа. Есть что-то теплое, благородное и человечное во взаимных отношениях действующих лиц этой поэмы: Игорь ждет милого брата Всеволода, и речь Всеволода к Игорю дышит кроткою и нежною родственною любовию без изысканности и приторности: «Один брат ты у меня, один свет светлый, о Игорь, и оба мы Святославичи!» Игорь отступает с полками не по боязни сложить свою голову: ему стало жаль своего милого брата Всеволода. В укорах престарелого Святослава сыновьям слышится не гнев оскорбленной власти, а ропот оскорбленной любви родительской, – и укор его кроток и нежен; обвиняя детей в удальстве, бывшем причиною Игорева плена, он в то же время как бы и гордится их удальством: «О сыны мои, Игорь и Всеволод! рано вы начали добывать мечами землю половецкую, а себе славы искать. Нечестно ваше одоление, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши из крепкого булата скованы, а в буести закалены! Сего ли ожидал я от вас серебряной седине своей!» Но особенно поразительны в поэме благородные отношения полов. Женщина является тут не женою и не хозяйкою только, но и любовницею вместе. Плач Ярославны дышит глубоким чувством, высказывается в образах, сколько простодушных, столько и грациозных, благородных и поэтических. Это не жена, которая после погибели мужа осталась горькою сиротою, без угла и без куска, и которая сокрушается, что ее некому больше кормить: нет, это нежная любовница, которой любящая душа тоскливо порывается к своему милому, к своей ладе, чтоб омочить в Каяле-реке бобровый рукав и отереть им кровавые раны на теле возлюбленного; которая обращается ко всей природе о своем милом: укоряет ветер, несущий ханские стрелы на дружину милого и развеявший по ковыль-траве ее веселие; умоляет Днепр – взлелеять до нее ладьи ее милого, чтоб она не слала к нему слез на море рано; взывает к солнцу, которое «всем и тепло и красно» – лишь томит зноем лучей своих воинов ее лады… И зато мужчина умеет ценить такую женщину: только жажда битвы и славы заставила буйтура Всеволода забыть на время «своея милыя хоти, красныя Глебовны, свычаи и обычаи»… Все это, повторяем, отзывается Южною Русью, где и теперь еще так много человечного и благородного в семейном быте{105}, где отношения полов основаны на любви, и женщина пользуется правами своего пола; и все это диаметрально противоположно Северной Руси, где семейные отношения дики и грубы и женщина есть род домашней скотины и где любовь совершенно постороннее дело при браках: сравните быт малороссийских мужиков с бытом русских мужиков, мещан, купцов и отчасти и других сословий, и вы убедитесь в справедливости нашего заключения о южном происхождении «Слова о полку Игореве», а наше рассмотрение русских народных сказок превратит это убеждение в очевидность.
Теперь нам следовало бы говорить{106} о «Сказании о нашествии Батыя на русскую землю» и о «Сказании о Мамаевом побоище»; но мы скажем о них очень немного. Оба эти памятника нисколько не относятся к поэзии, потому что в них нет ни тени, ни призрака поэзии: это скорее памятники даже не красноречия, а простодушной реторики того времени, которой вся хитрость состояла в беспрестанных применениях к Библии и выписке из нее текстов. Гораздо любопытнее «Слово Даниила Заточника». Оно также не относится к поэзии, но может служить образцом практической философии и ученого красноречия XIV века{107}. Даниил Заточник был человек глубокой учености в духе своего времени; «Слово» его отличается умом, ловкостию, а местами и чем-то похожим на красноречие. Главнейшее его достоинство состоит в том, что оно так и дышит духом своего времени. Писано оно в заточении, к князю, у которого наш Заточник надеялся вымолить себе прощение и свободу. Не теряя из виду главного предмета своего послания, Заточник беспрестанно пускается в разные суждения. Между прочим, распространяясь о своей нищете, говорит:
Богат муж везде знаем есть; и в чюжой земле друзи имеет, а убог и во своих невидимо ходит. Богат возглаголет, вси возмолчат и слово его вознесут до облак; а убог возглаголет, вси на нь кликнут и уста ему заградят: их же ризы светлы, тех и речь честна.
Подлещаясь к князю, он так восхваляет его:
Птица бо радуется весне, а младенец матери, так и аз, княжс господине, радуются твоей милости; весна убо украшает цветы землю, а ты, княже господине, оживлявши вся человеки своею милостью, сироты и вдовицы, от вельмож погружаеши. Княже господине! яви мне зрак лица твоего, яко глас твой сладок, и образ твой государев красен, и лицо твое светло и благолепно, и разум Твой государев яко же прекрасный рай многодлодовит.
Мольбы Заточника к князю возвышаются иногда до истинного красноречия:
Но егда веселишися многими брашны, а меня помяни сух хлеб ядуща; или пиеши сладкое питие, а меня помяни, теплу воду пьюща и праха нападша{108} от места заветреня; егда ляжеши на мягких постелях под собольими одеялы, а меня помяни под единым платом лежаща, и зимою умирающа, и каплями дождевыми яко стрелами сердце проницающе.
Особенно замечательно следующее место в «Слове» Заточника, где он дает князю совет уважать ум больше богатства и говорит о самом себе с каким-то наивным возвышенным сознанием собственного достоинства:
Княже, господине мой! не лиши хлеба нища мудра, ни вознеси до облак богатого безумна, несмысленна: нищ бо мудр, яко злато в калне сосуде, а богат красен несмыслен, то аки паволочитое зголовье, соломы наткано. Господине мой! не зри внешняя моя, но зри внутреняя: аз бо одеянием есть скуден, но разумом обилен; юн возраст имею, а стар смыслом, бых мыслию яко орел паряй по воздуху. Но постави сосуды скудельничьи под поток капля языка моего, да накаплют ти сладчайши меду словеси уст моих.
Описывая, далее, глупцов, Заточник впадает в истинный сарказм:
Не сей бо на браздах жита, ни мудрости на сердце безумных: безумных бо ни орют, ни сеют, ни в житницы собирают, но сами ся рождают. Как во утел мех воду лити, так безумного учити; псом и свиниям не надобно злато и сребро, ни безумному мудрая словеса{109}. Коли пожрет синица орла, коли камение восплывет по воде, коли свиния почнет на белку лаяти, тогда безумный уму научится.
Заметно, что Даниил Заточник пострадал от злых наветов со стороны бояр и жены князя; по крайней мере ничем иным нельзя объяснить следующей грозной филиппики против дурных советников и дурных жен:
Княже, мой господине! не море топит корабли, но ветри; а не огонь творит разжжение железу, но надымание мешное: тако же и князь не сам впадает во многие в вещи худые{110}, но думцы вводят. С добрым бо думцею князь высока стола додумается, а с лихим думцею думает, и малого стола лишен будет. Глаголет бо в мирских притчах: не скот в скотех коза, и не зверь во зверех еж, не рыба в рыбах рак, не птица во птицах нетопырь, а не муж в мужех, кем своя жена владеет; не жена в женах, иже от своего мужа…; не работа в работах под жонками воз возити. Дивее дива, кто поймает жену злообразну, прибытка ради….{111} лепше вол ввести в дом свой, нежели злая жена поняти: вол бо не молвит, ни зла мыслит; а злая жена биема бесится, а кротима высится, в богачестве гордится, а в убожестве иных осуждает. Что есть жена зла? гостиница неусыпаемая, купница бесовская. Что есть жена зла? мирскы мятежь, ослепление уму, началница всякой злобе, во церкви бесовская мытница, поборница греху, засада спасению.
Не выписываем до конца этой энергической выходки: это только начало, слабейшая часть ее. Вместо ее, выпишем окончание Заточникова послания: оно до такой степени в духе времени, что из красноречивого становится поэтическим, и потому особенно интересно.
Сии словеса аз Даниил писах в заточение на Беле озере, и запечатав в воску, и пустих во озеро, и взем рыба пожре, и яша бысть рыба рыбарем, и принесена бысть ко князю, и нача ее пороти, и узре князь сие написание, и повеле Данила свободити от горького заточения. – Не отметай безумному прямо безумия его, да не подобен ему будеши. Уже бо престану глаголати, да не буду яко мех утел, роняя богатство убогим; да не уподоблюся жерновам, яко те многие люди насыщают, а сами себе не могут насытися, да не возненавиден буду миру со многою беседою. Яко же бо птица учащает песни своя, скоро возненавидема бывает. Глаголет бо в мирских притчах: речь продолжна недобро, продолжена поволока. Господи! дай же князю нашему силу Самсонову, храбрость Александрову, Иосифов разум, мудрость Соломоню, кротость Давидову, и умножи, господи, вся человеки под руку его. Люте беснующемуся дати нож, а лукавому власть (?). Паче всего ненавижь стороника перетерплива. Аминь.
Кто этот Даниил Заточник и когда он жил – неизвестно. Известия о его заточении находятся в наших летописях под годом 1378{112}. Как бы то ни было, г. Сахаров заслуживает особенную благодарность за перепечатание в своей книге рукописи Даниила Заточника, столь интересной во многих отношениях. Кто бы ни был Даниил Заточник, – можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей своего превосходства, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и снедается ревностию по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить; словом, одна из тех личностей, которые люди сперва хвалят и холят, потом сживают со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить…
Теперь нам следует приступить к сказочным поэмам, заключающимся в сборнике казака Кирши Данилова. Там их числом больше тридцати, кроме казачьих, а г. Сахаров поместил из них в своей книге, в отделе «Былины русских людей», только одиннадцать. Вообще, г. Сахаров обнаруживает к сборнику Кирши Данилова большую недоверчивость и даже что-то вроде неприязни. Это дело требует некоторого пояснения. Рукопись сборника Кирши Данилова была найдена г. Демидовым и издана (не вполне) г. Якубовичем в 1804 году, под титулом «Древние русские стихотворения». Потом рукопись перешла во владение графа Н. П. Румянцева, по поручению которого и издана была г. Калайдовичем в 1818{113} году, под титулом: «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные, с присовокуплением{114} 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева». В предисловии своем г. Калайдович говорит:{115}
Сочинитель, или, вернее, собиратель древних стихотворений, ибо многие принадлежат временам отдаленным, был некто Кирша, без сомнения, по малороссийскому выговору Кирилл, так как Павша – Павел; Данилов, вероятно, казак, ибо он изредка воспевает подвиги храброго сего войска с особенным восторгом. Имя его было поставлено на первом, теперь уже потерянном листе древних стихотворений. За справедливость сего ручается г. Якубович. В 36 пиесе «Да не жаль добра молодца битого, жаль похмельного», где он сам себя именует «Кириллом Даниловичем», посвящая сие произведение вину и дружбе. Место его рождения или пребывания означить трудно, ибо в пиесе «Три года Добрынюшка стольничал», на стр. 67{116}, говорит сочинитель:
А не было Добрыне шесть месяцев.
По-нашему, по-сибирскому, словет полгода.
Посему не без вероятия заключить можем, что некоторые из стихотворений сочинены в Сибири. В статье «Василий Буслаев», на стр. 73:
А и нет у нас такого певца
Во славном Новегороде
Супротив Василья Буслаева.
И, наконец, в «Чурилье игуменье», на стр. 383, представляет себя жителем киевским:
Да много было в Киеве божьих церквей,
А больше того почестных монастырей;
А не было чуднее Благовещения Христова.
А у нашего Христово Благовещенья честнова,
А был-де у нас Иван-пономарь.
Собиратель древних стихотворений должен принадлежать к первым десятилетиям XVIII века.
Г-н Сахаров спрашивает:{117} «На чем основано, что собирателем древних стихотворений был Кирша Данилов? На том, что имя его поставлено на первом листе рукописи. Где этот лист? Калайдович говорит, что он потерялся. Кто видел лист с подписью? Один только издатель Якубович, который, по словам Калайдовича, ручается за справедливость этого известия?»
Коротко и ясно: из всего этого г. Сахаров хочет вывести следствие, что Кирша Данилов отнюдь не был собирателем древних стихотворений. Прекрасно; но в чем спор и есть ли о чем тут спорить? Кирша Данилов – хорошо; не он, а другой, г. А., г. Б., г. В. – также хорошо: по крайней мере в обоих случаях стихотворения не делаются ни лучше, ни хуже. Впрочем, все причины стоят за Киршу Данилова, и ни одной против него; это ясно как день{118}. Во-первых, нужно же какое-нибудь общее имя для означения сборника древних стихотворений: зачем же выдумывать новое, когда уже глаза всей читающей публики пригляделись в печати к имени Кирши Данилова? Во-вторых, что имя его могло стоять на заглавном листе – это вернее, чем то, что его не было на нем, ибо это имя упоминается в тексте целой песни, сочиненной самим собирателем. Вот она:
А и не жаль мне-ко битого, грабленого,
А и того ли Ивана Сутырина,
Только жаль доброго молодца похмельного,
А того ли Кирилу Даниловича.
У похмельного доброго молодца буйна голова болит:
А вы, милы мои братцы, товарищи, друзья!
Вы купите винца, опохмельте молодца.
Хоть горько да жидко – давай еще;
Замените мою смерть животом своим:
Еще не в кое время пригожусь я вам.
Разумеется{119}, смешно было бы почитать Киршу Данилова сочинителем древних стихотворений; но кто же говорил или утверждал это? Все эти стихотворения неоспоримо древние. Начались они, вероятно, во времена татарщины, если не раньше: по крайней мере все богатыри Владимира Красна-солнышка беспрестанно сражаются в них с татарами. Потом каждый век и каждый певун или сказочник изменял их по-своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнейшему изменению они подверглись, вероятно, во времена единодержавия в России. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казак Кирша Данилов, гуляка праздный{120}, не оставил их совершенно в том виде, как услышал от других. И он имел на это полное право: он был поэт в душе, что достаточно доказывается его страстию к поэзии и терпением положить на бумагу 60 больших стихотворений. Некоторые{121} из них могут принадлежать и самому ему, как выше выписанная нами песня: «А и не жаль мне-ко битого, грабленого»{122}. На Руси исстари заведено, что умный человек непременно горький пьяница: так или почти так справедливо заметил где-то Гоголь{123}. В следующей песне, отличающейся глубоким и размашистым чувством тоски и грустной ирониею, Кирша Данилов является{124} истинным поэтом русским, какой только возможен был на Руси до века Екатерины Великой:
А и горе, горе-гореваньице!
А и в горе жить – некручинну быть,
Нагому ходить – не стыдитися,
А и денег нету – перед деньгами,
Появилась гривна – перед злыми дни.
Не бывать плешатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхого,
Не откормить коня сухопарого,
Не утешити дитя без матери,
Не скроить атласу без мастера.
А горе, горе-гореваньице!
А и лыком горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я от горя – в темны леса,
А горе прежде век зашел;
А я от горя – в почестный пир —
А горе зашел, впереди сидит;
А я от горя – на царев кабак —
А горе встречает, уж пиво тащит.
Как я наг-то стал, насмеялся он.
Кирша Данилов жил в Сибири, как это видно из частых выражений: «а по-нашему, по-сибирскому» и из некоторых поэм, посвященных памяти подвигов завоевателя Сибири, Ермака. Очень вероятно, что в Сибири Кирша имел больше, чем где-нибудь, возможности собрать древние стихотворения: обыкновенно колонисты с особенною любовию и особенным старанием хранят памятники своей первобытной родины. Вообще, в Сибири и теперь еще сохранился во всей чистоте первобытный духовный тип старой Руси.
«Древние стихотворения», заключающиеся в сборнике Кирши Данилова, большею частию эпического содержания в сказочном роде. Есть большая разница между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме поэт как бы уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему благоговение; сказочник – себе на уме: цель его – занять праздное внимание, рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне того и другого рода произведений: в первом важность, увлечение, иногда возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более – пошлых шуток; в основании второго всегда заметна задняя мысль, заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренно смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам. Кроме «Слова о полку Игореве», из народных произведений у нас нет ни одной поэмы, которая не носила бы на себе сказочного характера. Русский человек любит небылицы как забаву в праздные минуты долгих зимних вечеров, но не подозревает в них поэзии. Ему странно и дико было бы узнать, что ученые бары списывают и печатают его россказни и побасенки не для шутки и смеха, а как что-то важное. Он отдает преимущество песне перед сказкою, говоря, что «песня – быль, а сказка – ложь». У него нет никакого предчувствия о близком сродстве вымысла с творчеством: вымысел для него все равно, что ложь, что вздор, что чепуха. А между тем «Древние стихотворения» не сказки собственно, но, как мы сказали, поэмы в сказочном роде. Может быть, первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потом уже, изменяясь со временем, получили свой сказочный характер; может быть также, что, вследствие варварского понятия о вымысле, и с самого начала явились они поэмами-сказками, в которых поэтический элемент был осилен прозою народного взгляда на поэзию. В книжке г. Сахарова{125} «Русские народные сказки» есть несколько сказок почти одинакового содержания и почти так же изложенных, как некоторые «Былины русских людей», помещенные им в «Сказаниях русского народа»{126}. Разница в том, что в сказках есть некоторые лишние против былин подробности, и в том, что первые напечатаны прозою, а вторые стихами. И мы думаем, что г. Сахаров сделал это не без основания: хотя и все наши сказки сложены какою-то мерного прозою, но этот метризм, если можно так выразиться, составляет в них побочное достоинство и часто нарушается местами, тогда как в поэмах метр, хотя и силлабический, и притом не всегда правильный, составляет их необходимую принадлежность. Сверх того, есть некоторая разница в манере, в замашке рассказа между сказкою и поэмою: первая объемлет собою всю жизнь богатыря, начинается его рождением, а оканчивается смертию; поэма, напротив, схватывает один какой-нибудь момент из жизни богатыря и силится создать из него нечто отдельное и цельное. И потому одна сказка заключает в себе два, три и более эпические рапсода, как, например, о Добрыне и об Илье Муромце. В тоне сказок больше простонародного, житейского, прозаического; в тоне поэм больше поэзии, полету, одушевления, хотя те и другие рассказывают часто об одном и том же предмете и очень сходно, нередко одними и теми же выражениями. Так как русский человек почитал сказку «пересыпаньем из пустого в порожнее», то он не только не гонялся за правдоподобием и естественностию, а еще как будто поставлял себе за непременную обязанность умышленно нарушать и искажать их до бессмыслицы. По его понятию, чем сказка неправдоподобнее и нелепее, тем лучше и занимательнее. Это перешло и в поэмы, которые преисполнены самыми резкими несообразностями. Мы сейчас дадим это увидеть самим читателям нашим, – для чего и перескажем им вкратце содержание всех поэм, находящихся в сборнике Кирши Данилова.
Нам удавалось слышать до крайности странное мнение, будто из наших сказочных поэм можно составить одну большую целую поэму, подобно тому, как будто бы из рапсодов была составлена «Илиада»{127}. Теперь уже и о происхождении «Илиады» многими оставлено такое мнение, как неосновательное; что же до наших рапсодов, то мысль склеить их в одну поэму есть злая насмешка над ними. Поэма требует единства мысли, а вследствие ее – гармонии в частях и целости в общем. Из содержания наших рапсодов мы увидим, что искать в них общей мысли – все равно, что ловить жемчужные раковины в реке Фонтанке. Они ничем не связаны между собою; содержание всех их одинаково, обильно словами, скудно делом, чуждо мысли. Поэзия к прозе содержится в них, как ложка меду к бочке дегтю. В них нет никакой последовательности, даже внешней; каждая из них – сама по себе, ни вытекает из предыдущей, ни заключает в себе начала последующей. Внешнее единство «Илиады» основано на гневе Ахиллеса против Агамемнона за пленницу Бризеиду; Ахиллес отказывается от боя, и вследствие этого эллины претерпевают страшные поражения от троян, и погибает Патрокл; тогда Ахилл мирится с Агамемноном, поражает торжествовавших троян и убийством Гектора выполняет свою клятву мщения за смерть Патрокла. Потому-то в «Илиаде» вторая песня следует за первою, а третья за второю, и так далее, от первой до 24-й включительно, не по цифрам, в начале их произвольно поставленным собирателем, а по внутреннему развитию хода событий. В наших же рапсодах нет общего события, нет одного героя. Хоть и наберется поэм двадцать, в которых упоминается имя великого князя Владимира Красна-солнышка, но он является в них внешним только героем: сам не действует ни в одной и везде только пирует да похаживает по гриднице светлой, расчесывая кудри черные. Что же касается до связи этих поэм, то некоторые из них точно должны бы следовать в книге одна за другою, чего, к сожалению, не сделал Калайдович, напечатавший их, вероятно, в таком порядке, в каком они находились в сборнике Кирши Данилова. Но это относится к очень немногим, так что не более трех могут составить одно, – и это одно всегда имеет своего героя, помимо Владимира, о котором во всех равно упоминается. Герои эти – богатыри, составлявшие двор Владимира. Они со всех сторон стекаются к нему на службу. Это очевидно отголосок старины, отражение давней были, в которой есть своя доля истины. Владимир не является в этих поэмах ни лицом действительным, ни характером определенным, а, напротив, какою-то мифическою полутенью, каким-то сказочным полуобразом, более именем, нежели человеком. Так-то поэзия всегда верна истории: чего не сохранила история, того не передаст и поэзия; а история не сохранила нам образа Владимира-язычника, поэзия же не дерзнула коснуться Владимира-христианина. Некоторые из богатырей Владимира переданы нам этою сказочною поэзиею, как-то: Алеша Попович с другом своим Екимом Ивановичем, Дунай, сын Иванович, Чурило Пленкович, Иван Гостиный сын, Добрыня Никитич, Поток Михайло Иванович, Илья Муромец, Михайло Казаринов, Дюк Степанович, Иван Годинович, Гордей Блудович, жена Ставра-боярина, Касьян Михайлович; некоторые только упоминаются по имени, как-то: Самсон Колыванович, Сухан Домантьевич, «Светогор-богатырь и Полкан другой», Семь братов Сбродовичей и два брата Хапиловы… Но пусть само дело говорит за себя. Начнем с Алеши Поповича.
* * *
Из славного Ростова, красна города, вылетывали два ясные сокола, выезжали два могучие богатыря,
Что по имени Алешинька Попович млад
А со молодом Екимом Ивановичем.
Наехали они в чистом поле на три дороги широкие, а при тех дорогах лежит горюч камень с надписями; Алеша Попович просит Екима Ивановича, «как в грамоте поученого человека», прочесть те надписи. Одна из них означала путь в Муром, другая в Чернигов, третья – «ко городу Киеву, ко ласкову князю Владимиру». Еким Иванович спрашивает, куда ехать; Алеша Попович решает – к Киеву. Не доехавши до Сафат-реки (?), остановились на зеленых лугах покормить добрых коней. Здесь мы остановимся с ними, чтоб спросить, что это была за река Сафат, протекавшая между Ростовом и Киевом? Вероятно, она заплыла туда из Палестины… Разбив шатры, стреножив коней, добры молодцы стали «опочив держать».
Прошла та ночь осенняя,
Ото сна пробуждается,
Встает рано-ранешенько,
Утреннею зарею умывается,
Белою ширинкою утирается,
На восток он, Алеша, богу молится.
Еким Иванович поймал коней, напоил их в Сафат-реке и, по приказанию Алеши, оседлал их. Лишь только хотели они ехать «ко городу Киеву», как попадается им калика перехожий.
Лапотки на нем семи шелков,
Подковырены чистым серебром,
Личико унизано красным золотом,
Шуба соболиная, долгополая.
Шляпа сорочинская, земли греческой,
В тридцать пуд шелепуга подорожная,
В пятьдесят пуд налита свинцу чебурацкого.
Вопрос: как же шелепуга могла быть в тридцать пуд, если одного свинцу в ней было пятьдесят пуд?.. Калика говорил им таково слово:
«Гой вы еси, удалы добры молодцы!
Видел я Тугарина Змеевича:
В вышину ли он, Тугарин, трех сажен,
Промеж плечей косая сажень,
Промежду глаз калена стрела;
Конь под ним, как лютый зверь,
Из хайлища пламень пышет,
Из ушей дым столбом стоит».
Алеша Попович привязался к калике, отдает ему свое платье богатырское, а у него просит себе каличьего, – и его просьба состоит в повторении слово в слово выписанных нами стихов, изображающих одеяние и оружие калики. Калика соглашается, и Алеша Попович, кроме шелепуги, берет еще про запас чингалище булатное и идет за Сафат-реку:
Завидел тут Тугарин Змеевич млад,
Заревел зычным голосом,
Продрогнула дубровушка зеленая,
Алеша Попович едва жив идет.
Говорил тут Тугарин Змеевич млад:
«Гой еси, калика перехожая!
А где ты слыхал и где видал
Про млада Алешу Поповича:
А и я бы Алешу копьем заколол,
Копьем заколол и огнем спалил».
Говорил тут Алеша каликою:
«А и ты ой еси, Тугарин Змеевич млад!
Поезжай поближе ко мне,
Не слышу я, что ты говоришь».
Подъезжал к нему Тугарин Змеевич млад,
Сверстался Алеша Попович млад
Против Тугарина Змеевича,
Хлестнул его шелепугою по буйной голове,
Расшиб ему буйну голову —
И упал Тугарин на сыру землю;
Вскочил ему Алеша на черну грудь.
Втапоры взмолится Тугарин Змеевич млад:
«Гой еси ты, калика перехожая!
Не ты ли Алеша Попович млад?
Только ты Алеша Попович млад,
Сем побратуемся с тобою».
Втапоры Алеша врагу не веровал,
Отрезал ему голову прочь,
Платье с него снимал цветное
На сто тысячей – и все платье на себя надевал.
Увидев Алешу Поповича в платье Тугарина Змеевича, Еким Иванович и калика перехожая пустились от него бежать; когда ж он их нагнал, Еким Иванович бросил себе назад палицу в тридцать пуд, попал Алеше в грудь – и тот повалился с коня замертво.
Втапоры Еким Иванович
Скочил со добра коня, сел на груди ему:
Хочет пороть груди белые —
И увидел на нем золот чуден крест,
Сам заплакал, говорил калике перехожему:
«По грехам надо мною, Екимом, учинилося,
Что убил своего братца родимого».
И стали его оба трясти и качать,
И потом подали ему вина заморского;
От того он здрав стал.
Алеша Попович обменялся с каликою платьем, а Тугариново положил себе в чемодан. Приехали в Киев.
Скочили с добрых коней,
Привязали к дубовым столбам,
Пошли во светлы гридни;
Молятся Спасову образу
И бьют челом, поклоняются
Князю Владимиру и княгине Апраксеевне,
И на все четыре стороны;
Говорил им ласковый Владимир-князь:
«Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитеся, как вас по имени зовут:
А по имени вам мочно место дать,
По изотчеству можно пожаловати».
Говорил тут Алеша Попович млад:
«Меня, осударь, зовут Алешею Поповичем,
Из города Ростова, старого попа соборного».
Втапоры Владимир-князь обрадовался,
Говорил таковы слова:
«Гой еси, Алеша Попович млад!
По отечеству садися в большое место, в передний уголок,
В другое место богатырское,
В дубову скамью против меня,
В третье место, куда сам захочешь».
Не садился Алеша в место большое
И не садился в дубову скамью,
Сел он со своими товарищи на полатный брус (!!??).
Вдруг – о чудо! – на золотой доске двенадцать богатырей несут Тугарина Змеевича – того самого, которому так недавно Алеша отрубил голову, – несут живого и сажают на большое место.
Тут повары были догадливы:
Понесли яства сахарные и питья медвяные,
А питья все заморские,
Стали тут пить, есть, прохлаждатися;
А Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест:
По целой ковриге за щеку мечет,
Те ковриги монастырские;
И нечестно Тугарин питья пьет:
По целой чаше охлестывает,
Котора чаша в полтретья ведра.
И говорил втапоры Алеша Попович млад:
«Гой еси ты, ласковый сударь, Владимир-князь!
Что у тебя за болван пришел,
Что за дурак неотесаной?
Нечестно у князя за столом сидит,
Ко княгине, он, собака, руки в пазуху кладет,
Целует во уста сахарные,
Тебе князю насмехается».
Далее Алеша говорит, что у его отца была скверная{128} собака, которая подавилась костью и которую он, взявши за хвост, под гору махнул: «От меня Тугарину то же будет».
Тугарин почернел, как осенняя ночь,
Алеша Попович стал, как светел месяц.
Начавши рушить лебедь белую, княгиня обрезала себе рученьку левую,
Завернула рукавцом, под стол опустила,
Говорила таково слово:
«Гой вы еси, княгини, боярыни!
Либо мне резать лебедь белую,
Либо смотреть на мил живот,
На молода Тугарина Змеевича».
Тугарин схватил лебедь белую, да разом ее за щеку, да еще ковригу монастырскую. Алеша опять повторяет свое воззвание к Владимиру теми же словами; только, вместо собаки, говорит о коровище старой, которая, забившись в поварню, выпила чан браги пресныя и от того лопнула и которую он, Алеша, за хвост да под гору: «От меня Тугарину то же будет». Потемнев, как осенняя ночь, Тугарин бросил в Алешу чингалищем булатным, но Попович «на то-то верток был», и Тугарин не попал в него. Еким спрашивает Алешу: сам ли он бросит в Тугарина али ему велит? Алеша сказал, что он завтра сам с ним переведается, под великий заклад – не о сте рублях, не о тысяче, а о своей буйной голове. Князья и бояре скочили на резвы ноги, и все за Тугарина поруки держат: князья кладут по сту рублев, бояре по пятидесяти, крестьяне (?) по пяти рублев, а случившиеся тут гости купеческие подписывают под Тугарина три корабля свои с товарами заморскими, которы стоят на быстром Днепре; а за Алешу подписывал владыка черниговский.
Втапоры Тугарин и вон ушел,
Садился на своего добра коня,
Поднялся на бумажных крыльях под небесью летать.
Скочила княгиня Апраксеевна на резвы ноги,
Стала пенять Алеше Поповичу:
«Деревенщина ты, заселыцина!
Не дал посидеть другу милому».
Втапоры Алеша того не слушался,
Звился со товарищи и вон пошел.
На берегу Сафат-реки пустили они коней в зеленые луга, разбили шатры и стали «опочив держать». Алеша всю ночь не спит, со слезами богу молится, чтоб послал тучу грозную; молитва Алешина дошла до Христа, послал он «тучу с градом дождя», подмочил Тугарину крылья бумажные, и лежит он, как собака, на сырой земле. Еким извещает Алешу, что видел Тугарина на сырой земле, – Алеша снаряжается, садится на добра коня, берет сабельку острую.







