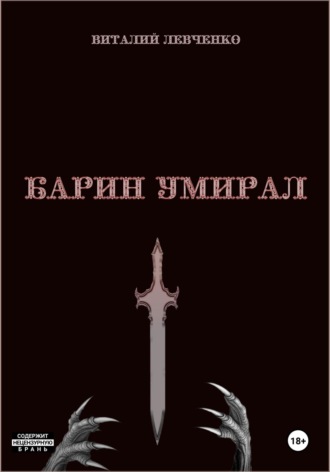
Виталий Левченко
Барин умирал
Оленников спрыгнул с лошади.
– Беда, братцы! Барин Буселов нас в крепость берет!
– Врешь! – изумились мужики. – Откуда знаешь?
– Сходка была. Уездный комендант приезжал. Торопился. Кликнули всех, которые недалече были. За вами уж не время посылать вышло, – тараторил Сашка. – Комендант бумагу из земской канцелярии читал. По бумаге той село Назарово и все души… – он наморщил лоб, вспоминая, – да, все души, что по реестру государственному значились, а также наделы – все во владение помещику Буселову.
– Вот тебе и челобитная! Ясно теперь: жалобой нашей в Тобольске утерлись! Жить неохота! – выкрикнул Андрей.
– Жди теперь барщины на шею. Закабалит нас Буселов до смерти, – вздыхали мужики.
Сашка швырнул под ноги шапку.
– Вы как хотите, а я Ульянку свою стану на бега уговаривать. За Енисей уйдем. Кузнецы везде нужны.
Невесело кончили работать. К вечеру вернулись в село. Андрей с утра думал в ночь баню истопить, но после таких вестей руки опускались.
– У кого теперь защиты просить? – прошептал он, вглядываясь в огонек длинной лучины. Затушил ее и лег.
Через день по селу проехал барский управитель Ломов, с охраной. Сгоняли на сходку народ. Управитель, не слезая с коня, прокричал уже всем известную новость, другие же распоряжения обещал сделать позже. Окинул похабным взглядом девок и молодух, хлестнул коня и ускакал.
Этим же днем еще несчастье случилось. Барские слуги схватили у дома и увезли в поместье сына плотника Игнатьева, Мишку – отрока статного и красивого. Игнатьев был рядом и схватился за топор. Его отходили плетьми, да так, что ведунья Матрена не помогла. Ночью и помер.
Вскорости пропали еще несколько девок и юношей, понятно, куда. А вслед за ними исчезла младшая дочка кузнеца Битюгова, десяти лет отроду. Как ее выкрали со двора – неясно. Идти к Буселову никто из родных не решился. Знали, чем дело кончается.
К холодам помещичьи зверства в селе прекратились. Но крестьяне, ходившие на барщину в имение, рассказывали жуткие истории о выбегающих с хохотом в сад на снежные игрища бородатых бабах и мужиках в женских платьях, говорили о противных юрких карликах, которые забавляются с распутницами, о спесивых холопах, что без стыда и страха кары небесной совокупляются по углам с себе подобными, о дьявольских порошках, испробовав которые, человек теряет разум шибче, нежели от горькой, и о прочей мерзости еще рассказывали. Сам же Буселов на глаза крепостным не показывался.
– Господь наш всемогущий! – молились сельчане. – Видать, правду сказал писарь Куропаткин! Того и вольный человек не выдержал, сбежал.
– Не хотел я говорить, и так страху безмерно, – вздохнул староста Аникин. – Еще перед яблочным Спасом, когда в Енисейск ездил, узнал я о писаре Куропаткине от торговых людей. Убитым писаря нашли у дальней переправы. Говорят, людей Буселова там видели.
– Эх, страху староста побоялся, – безучастно проговорил Андрей. – Чего уж страшиться более, чем есть.
Всю зиму до самой оттепели не трогали барские слуги сельчан. Снова забрезжила надежда: а ну как образумился?
За неделю до Вознесения Господня вечером распахнулись чугунные ворота имения Шпасс, выкатил из них запряженный парой полуоткрытый фаэтон, в сопровождении четверки всадников с алебардами, при саблях. Процессия остановилась возле дома старосты. Люди поняли: новый указ кричать будут. Потянулись туда.
Из фаэтона вышел господин небольшого роста, с тонкими усиками, в затейливо убранном парике, изящно одетый, со свитком в руках. Он поднялся на крыльцо, окинул жгучим взглядом собравшихся и заговорил звонким голосом.
– Да то ж девка! – пошел изумленный шепот в толпе. Стражники замахали алебардами. Шепот стих.
– Повторяю: слушай барский указ! – девка развернула пергамент. – Отныне не подлежат принуждению к работе домашней и полевой отроки с девицами, а также чада малые. Телесно их не наказывать. Разрешено же проводить беседы увещевательные и только. А кто ослушается, и о том известно станет, – будет наказан сам. Отроки и девицы вправе защиту у его благородия барина Буселова Махея Алексеевича искать и указать на обидчиков своих, мать или отца.
Сельчане, пораженные услышанным, боялись вздохнуть.
В начале июля из села подались в бега сразу пятеро: подмастерье кузнеца Сашка Оленников с молодухой Ульянкой и еще трое мужиков.
Сашку с женой поймали быстро. Двух дней не прошло. Ульянка на сносях была. Это беглецов и задержало.
Сельчан согнали к широкой поляне, на которой барские холопы вырыли яму и нажгли туда уголья. Ульянку раздели донага и привязали к березе. Сашке выкололи глаза и толкнули босого в яму на жар. А чтоб не выскочил, вокруг ямы слуги с пиками поставлены были. Кричал Сашка, взвиваясь над пылающими головнями, кидался на пики. Рухнул в пекло, раскидывая с визгом уголья. Скорчился, замолкнув. Потянуло на сельчан горелым мясом. Кому-то из баб дурно делалось, падали, не в силах смотреть на такое. Мужики закрывали глаза, крестились. Федька Липа блевал у кустов. На Ульянку никто внимания не обращал. А когда обернулись, увидели, что меж ног ее болтается в крови комок. Ульянка от мучений таких плод мертвый выбросила и сама богу душу отдала.
– Вам, скотам, наука будет, как своевольничать! Сукины дети! – управитель Ломов погрозил толпе кнутом.
Андрей бросился на землю, вцепился пальцами в траву. До хруста сжал зубы в бессильной злобе. «Убить! Убить! – стучала в висках мысль. – Разорвать руками голыми! Или самому умереть! Зачем такая мука!».
Дьявол, видимо, барину нашептывал. Знал, когда послабление сделать. После казни той до самого августа тишина была.
Кожевенник Иван Хлумов вытащил длинными щипцами из бочки отмокшую кожу. Бросил на стол.
– Митька, неси скребки, живо! – позвал он сына.
Митька Хлумов, двенадцати лет отроду, вышел из сенцев. Потянулся, сладко зевнул.
– Оглох никак? – нахмурился Иван.
Митька надул губы.
– Воняет работа ваша, тятенька. Такой дух тяжелый, люди носы воротят. Не хочу.
Иван молча снял с забора кнутовище, схватил Митьку за грудки и размахнулся.
– Не сметь! – сжавшись, жалобно крикнул тот. – Барину пожалуюсь! Будет вам!
Иван с изумлением замер. Лицо его покраснело от гнева.
– Барину? На родного отца? Иуда проклятый! – закричал он, с силой опуская кнутовище на спину. Снова и снова.
Митька упал. Иван ударил последний раз.
– Вон с глаз моих! – бросил он. Митька, всхлипывая, кинулся со двора.
Хлумов заканчивал выскребать последнюю кожу, когда у ворот послышался конский топот. Открылась калитка, вошли стражники Буселова, за ними – управитель Ломов, толкая перед собой Митьку. Взгляд у того был испуганный.
– Он? – спросил Ломов, указывая пальцем на Ивана.
Митька молчал.
– Я спрашиваю: он? – повысил голос управитель, сжимая отроку плечо. – Не укажешь – сам под плеть пойдешь!
Иван стоял спокойно, глядел в глаза сыну.
Митька заплакал и кивнул.
– Не бейте его! Тятенька за дело меня наказывал.
Стражники схватили кожевенника, растянули на его же столе.
– Пятьдесят ударов! – приказал Ломов.
Через короткое время барских людей не было во дворе. Иван, без памяти, лежал в луже. Упала в слезах к его ногам жена Прасковья. Митька, подвывая от ужаса, сжался в комок возле бочек, глядел на родителей.
С каждым летом вольнее чувствовал себя барин. Его слуги заходили в избы смело, вытаскивали из-под лавок, стягивали с печей хоронившихся девок и отроков. Не все пропадали в имении Шпасс. Некоторые возвращались.
Иринка, дочь Ракитиных, мастерица вышивать узоры, высокая и статная, с косой, переложенной через тонкое плечо, вернулась из имения поздно вечером. Родители не знали: горевать или радоваться. Иринка молчала. Попросила лишь баню истопить, в ней и ночевать осталась. А на зорьке заколотил в окошко избы Ракитиных подпасок Гришка. В ближнем пруду Иринку нашли. Только утопилась.
Бабка Агафья собралась в лес по ягоды. Завела ее шикша да черника сквозь ельник до ручья. Вдруг затрещало высоко в густых сосновых лапах, защелкало. Агафья догадалась: самого Хозяина потревожила. Только перекреститься собралась, как ухнуло сверху что-то на нее, осыпав колючими иголками. Бабка с криком и повалилась. Оклемалась маленько, голову повернула. Глядь – а перед ней удавленник лежит, с веревкой на шее. Глаза птицами поклеваны, лицо раздутое, язык из синих губ свисает темный. С криком понеслась старая в село, забыв о корзине. Мужиков подняла. Те – в лес. Нашли удавленника. По родимому пятну на спине опознала вдова плотника Игнатьева своего сына – Мишку, что был похищен два лета назад. Видно, не выдержал он более.
Митькина мать, Прасковья Хлумова, ходила к реке, на заливной луг, травы искать целебные, что посоветовала ведунья Матрена. С тех пор, как барские слуги отходили ее Ивана плетками, повредилось что-то в его печенках. Худеть стал, и силы пропали. Все на печи лежал. Отварами только и спасался.
Прасковья набила полный мешочек ярутки и дымянки. Решила передохнуть у стога из травы полевой. Подходя, услышала шушуканье девичье и смех. Кольнуло Прасковью предчувствие нехорошее. Присела она за куст. Видит: со стога сползает пузатая девка Ворошилиных, которую перед весной в имение ненадолго забирали. За ней две девчушки спустились, дочки пастуха. Личики раскраснелись, в волосах солома, подолы подоткнуты. Девка и говорит им со смехом:
– Это что еще! Малость какая! Вот у барина мы такое изведали – сами ни в раз не догадаетесь. А придете снова – я вас и научу.
Прасковья бочком-бочком кинулась оттуда. Домой прибежала – отревелась в бане: за себя, за мужа искалеченного, за всех невинно убиенных и тех, которым барин пороком смертным душу погубил. Вздохнула, ополоснула лицо ледяной водой и принялась отвары готовить.
Андрей Лоскутин ссыпал медяки в холщовый мешочек. Сжал в руке. Задумался. Чтобы уйти туда, где барская воля власть теряет, денег требуется больше. Но как накопишь, коли барщина да оброк все съедают! А бежать на авось – усвоено, какая расправа ждет пойманных. Все же следующим летом нужно собираться. Жизни здесь не будет. И не на Север, по Енисею, где человека издалека видно, а в Московскую губернию, там затеряться проще. Говорят, если не врут, есть такие люди тайные, что любую бумагу выправить могут, были бы деньги.
Во дворе зашумело. В дверь заколотили. Андрей вздрогнул: не иначе опять беда. Сунул мешочек под кафтан на печи. Открыл.
На пороге стоял Федька Липа.
– Ты чего? – напрягся Андрей.
– Барин помирает! – выпалил Федька.
Лоскутин изумленно уставился на него. Федька прижал руки к груди.
– Да, ей богу, не вру! Помирает Буселов!
Утром выяснилось, что барину прошлым днем действительно стало плохо. Отобедав, поднялся он из-за стола, побагровел и наземь без памяти свалился. Правда, помещичий лекарь его в чувства привел, пустив кровь. А как там дальше – никто не знает. Сельчане в церкви молились, чтобы Господь прибрал Буселова поскорее. Батюшка Кирилл Воробушкин отчитывал прихожан: грешно смерти желать твари Божией, человеку тем паче. Этим шум большой поднял.







