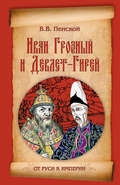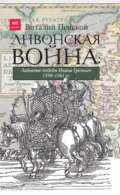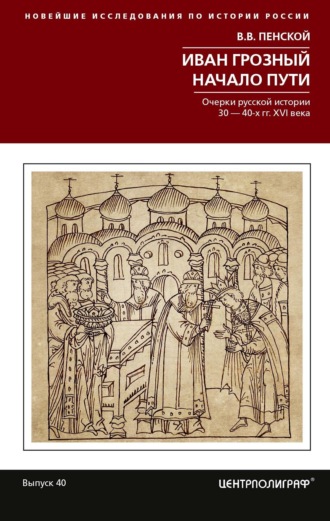
Виталий Пенской
Иван Грозный. Начало пути. Очерки русской истории 30–40-х годов XVI века
Примечательно, что, говоря о русском «долгом XVI веке», нельзя не отметить, что его деление на «половины», «золотую» и «серебряную», в общем довольно точно совпадает с делением, предложенным Ф. Броделем. Согласимся с тем, что точно так же, как по отношению к той же Англии или Франции можно сказать, что Россия времен Ивана III и даже Василия III – это совсем не та Россия, которая будет при Иване IV. И даже Россия в 1547 г., в начале самостоятельного правления Ивана Васильевича. Больше того, Россия в 1583 г., в конце жизни Ивана Грозного, и Россия в начале его самостоятельного правления при всей их схожести – все же несколько отличаются друг от друга, не говоря уже о том, что будет после. Своими действиями Иван явно порушил «старину», сам того не желая (можно ли сказать, что он попытался, и в каком-то смысле не без успеха, осуществить в России «консервативную революцию»?). Попытки же вернуть ее, предпринятые после его смерти «сверху», в конечном итоге в немалой степени поспособствовали наступлению Смуты начала XVII в., которая до основания потрясла и Русское государство, и русское общество. Консервативная реакция, наступившая после Смуты, всеобщее стремление восстановить привычный досмутный порядок вещей, в конечном итоге не имела успеха – да, внешняя форма как будто была восстановлена, но вот внутреннее содержание оказалось уже иным. И, естественно, что подспудное ощущение того, что окружающий мир изменяется, и явно не в лучшую сторону (причем эти ощущения явно присутствовали в коллективном сознании как всего русского общества, так и отдельных его «чинов» – освященного, служилого, торгового и земледелательного), не могло не породить и соответствующей реакции. Особенно бурный характер она принимает в XVII в. при первых Романовых («соляной бунт» 1648 г. и серия городских волнений конца 40-х – начала 50-х гг., «чумной бунт» в Москве в 1654 г., «медный бунт» и Раскол, Разинщина свидетельствуют сами за себя). Стрелецкий бунт 1682 г. как бы подвел черту под начавшимся в 1453 г. со смертью Дмитрия Шемяки русским «долгим XVI веком», став преддверием новой эпохи (хотя степень ее новизны, как считает американский русист Н. Колл-манн, вряд ли стоит преувеличивать[26]).
Однако все это будет потом, нас же интересует начальный этап этой эволюции. Где искать отправную точку этих процессов, когда началась «осень русского Средневековья»? Пожалуй, мы не слишком сильно погрешим против истины, если скажем, что все началось еще в первой половине XV в., точнее, во второй его четверти, во времена печально неизвестной (а как еще ее можно назвать, когда о ней знают немногие посвященные в перипетии русской истории позднего Средневековья?) «Войны из-за золотого пояса» между Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, а после его смерти – его наследниками Дмитриевичами, среди которых особенно яркой и колоритной была фигура Дмитрия Шемяки. Эта русская «война престолов», растянувшаяся на без малого четверть столетия, изобиловала неожиданными поворотами, изменами, интригами, убийствами и казнями. Василий II сумел одолеть своих конкурентов в этой борьбе, но дорогой ценой – он не только лишился зрения, но и избавился от каких-либо иллюзий относительно человеческой природы. Юный княжич, пройдя через перипетии смуты до конца, возмужал и заматерел, превратившись в расчетливого, циничного, беспощадного и, что уж там скрывать, подозрительного до болезненности правителя, который особо не стеснялся в выборе средств и методов в борьбе со своими явными и потенциальными недругами. Отметим, что прозвище, данное ему, Темный, порой связывают не с его слепотой, а с последствиями неудачной для великого князя битвы с татарами под Суздалем в 1445 г., когда он был взят в плен неприятелем и был отпущен на волю за огромный выкуп. Злые языки утверждали, что одним из условий освобождения князя стало признание им своего вассального статуса по отношению к татарскому «царю» Улуг-Мухаммеду и превращение тем самым Василия в князя не «Тёмного», но «Темного», то есть обычного ордынского военачальника-темника[27]. И этот Темный князь, «перебрав людишек» в своих владениях и удалив (кого в могилу, кого в эмиграцию, кого в заключение) всех, кого мог бы опасаться или кому не доверял, возобновил собирание земель и явочным порядком, через все тот же «перебор людишек», серьезно продвинулся вперед в деле собирания власти в руках великого князя.
Своему сыну Ивану III Василий завещал не только и даже не столько окрепшее и вставшее на ноги после Смуты государство. Более важным представляется другое. С одной стороны, Иван Васильевич, в последние годы правления своего отца являвшийся фактически его соправителем, на практике освоил сложное искусство управления и принял бразды правления, будучи достаточно опытным и искушенным политиком. С другой стороны, его отец в своей духовной грамоте отписал Ивану удел, размеры которого существенно превышали доли в отцовском наследстве его братьев. Благодаря этому переход власти из рук в руки прошел гладко, без каких-либо серьезных проблем (создается впечатление, что поразившая жителей столицы своей жестокостью и тем, что она была свершена в Великий пост, показательная казнь по весне 1462 г. серпуховских детей боярских, вознамерившихся было вызволить своего князя Василия Ярославича, брошенного Василием Темным в темницу[28], была отнюдь не случайна – великий князь тем самым хотел преподать урок потенциальным заговорщикам). Все это позволило Ивану III, который первым получил прозвище Грозного, практически довести до конца дело собирания земель и укрепления власти великого князя и господаря всея Русии. Он не только прибрал к своим рукам Новгород и Тверь (не считая более мелких уделов), но и серьезно прирастил территорию своего государства на западе за счет присоединения земель на «литовской украине» в ходе двух успешных русско-литовских войн 1486–1494 и 1500–1503 гг.
Василий III, сын от второго брака Ивана с византийской принцессой Зоей-Софьей Палеолог, унаследовав от Ивана III власть (на этот раз переход был не столь прост и однозначен, как в предыдущем случае, – Иван III долго колебался, кому отдать великое княжение, сыну Василию или же внуку Дмитрию; сам же Василий, придя к власти, первым делом приказал арестовать Дмитрия, показав тем самым, что он занял московский стол всерьез и надолго), завершил формирование ядра Русского государства. Именно при нем номинальная де-юре зависимость Пскова и Рязани от Москвы была превращена в реальную, а под его высокую руку перешел Смоленск.
Процесс собирания коренных русских земель, шедший параллельно с аналогичным процессом собирания власти в руках великого князя (скорее, быть может, не столько собирания, сколько возвращения), был завершен. Теперь перед верховной властью и ее окружением встал другой вопрос – более сложный и трудный уже хотя бы потому, что как это делать, было неясно, ибо в таких масштабах эту проблему никто из русских государей прежде не решал. Вопрос этот – внутреннее обустройство Русского государства. И ведь проблема состояла не только в том, что никто не знал, как обустроить Россию наилучшим образом – здесь как будто все было ясно, ибо нет ничего лучше, чем «старина». Нет, она заключалась в том, можно ли было влить новое вино в старые мехи.
Нам, обладающим послезнанием, очевидно, что такая попытка была заранее обречена на неуспех, однако современникам тех событий так не казалось, тем более что «новизна» отнюдь не выглядела таковой не только для молчаливого большинства. Между тем, явочным порядком, неосознанно, ведомые простой логикой вещей, Иван III и Василий III своими действиями по собиранию земель и власти создавали «новины», которые медленно, постепенно прорастали через «старину», разрушая исподволь устоявшийся порядок вещей. Трудно не согласиться с мнением отечественного исследователя А.И. Алексеева, который писал, характеризуя деятельность того же Ивана III, что «на глазах изумленных современников масштабные военные и политические предприятия Ивана III меняли карту Восточной Европы» (выделено нами. – В. П.), причем «не менее значительные начинания осуществлял великий князь и в области культуры, активно используя знания и опыт иноземцев (иноверцев)»[29]. Кстати, именно с тесным общением Ивана III с иноземцами связывал один из первых русских «диссидентов», сын боярский И.Н. Берсень Беклемишев, нестроения и гибель «старины» на Руси. В своих разговорах с Максимом Греком он говорил, что-де «как пришли сюда (в Россию. – В. П.) грекове, ино и земля наша замещалася; а дотоле земля наша Руская жила в тишине и в миру», и далее, обращаясь к Греку, Беклемишев заявил: «Как пришли сюды мати великого князя, великая княгиня Софья с вашими греки, так наша земля замешалася и пришли нестроения великие»[30]. И ведь при Иване III не только греки (а вместе с ними и итальянцы) хлынули в Русскую землю, проложив дорогу другим иноземцам и иноверцам. Активная экспансия на западном направлении и войны с Великим княжеством Литовским, которые начал Иван III (даже и не предполагая, что этот конфликт выльется в настоящую 200-летнюю войну между Русским государством и Литвой, а затем ее преемницей Речью Посполитой), привели к тому, что в Москву выехали многие представители аристократии и служилого сословия и Великого княжества Литовского, носители традиционного сознания и традиционных же ценностей.
Все это неизбежно вело к нарастанию противоречий внутри русского общества, к накоплению критической массы, которая рано или поздно должна была взорваться. Первые признаки растущего напряжения начали проявляться во второй половине правления Ивана III, и сам Иван этому в немалой степени поспособствовал. Жесткий, суровый, склонный к авторитарным методам управления политик, он, памятуя об уроках «Войны из-за золотого пояса», держал своих младших братьев в ежовых рукавицах, что, естественно, не могло не вызвать их недовольства, – по их мнению, старший брат отступал от «старины», рассматривая Русское государство как свою вотчину, а не семейное «предприятие». Характерный случай произошел в Пскове в самом конце XV в. Узнав о том, что Иван вознамерился поставить в Псковской земле князем своего сына Василия, псковичи били великому князю челом, чтобы он и его внук Дмитрий «держали отчиноу свою в старине, а которои бы велики князь на Москве, то и бы и нам был государь».
Ответом на эти слова стала опала, наложенная Иваном на псковских посланцев, и его гневная отповедь псковичам: «Чи не волен яз князь велики оу своих детех и оу своем княжении: комоу хочю, томоу дам княжение»[31]. Так что мятеж братьев Ивана Бориса Волоцкого и Андрея Большого Углицкого в 1480 г. был вполне закономерен, став ответом на продолжающееся постепенное размывание «старины» в межкняжеских отношениях, начатое еще в первой половине века. В самом деле, приказ Ивана III арестовать и доставить в Москву бывшего великолукского наместника князя И.В. Лыко Оболенского, на которого били государю челом лучане в его злоупотреблениях и который, не желая отвечать по обвинениям, «отъехал» («а бояром, и детем боярским, и слугам промеж нас волным воля» – из докончанья 1473 г. Ивана и Бориса[32]) на службу к Борису Волоцкому, был воспринят удельным князем как вмешательство в его права суверена в собственных владениях. В самом деле, если князья взаимно обещали друг другу в дела их «доменов» «не вступатися» и «блюсти, и не обидети»[33], то Борис имел полное право ответить посланцу великого князя на требование выдать ему головой Лыко Оболенского: «Кому до него дело, ино на него суд да справа»[34]. И когда Лыко Оболенский все же был тайно схвачен и в оковах доставлен в Москву, то обиженный младший брат счел в праве ответить на такое, с его точки зрения, самоуправство старшего брата мятежом.
Конфликт Ивана и его братьев был одним из звоночков, предвещавших будущий кризис. За ним последовали другие. Зарождение и стремительное расползание ереси «жидовствующих» сперва в Новгороде, а затем и в Москве, ереси тем более опасной, что она угнездилась в интеллектуальной и политической элите Русского государства и свила себе гнездо в ближнем окружении самого Ивана III (да и сам государь если и не симпатизировал на первых порах ей, то, во всяком случае, не препятствовал ее умножению), явно свидетельствовало об определенном неблагополучии внутри русского общества на рубеже XV и XVI вв. С борьбой против «жидовствующих» оказалась теснейшим образом связана и ожесточенная дискуссия вокруг вопроса о праве монастырей владеть вотчинами, разгоревшаяся внутри русской церкви в конце XV в. (и отзвуки которой, впрочем, как и борьбы с ересями, были слышны еще и в начале правления Ивана IV), и династический кризис, вспыхнувший на рубеже XV и XVI вв.
Нельзя сказать, чтобы спокойным было и время правления Василия III. Последний, как и его отец, продолжал, как уже было отмечено выше, ту же политику, да и сам он был достойным наследником и преемником деда Василия и отца Ивана – жестким (порой до жестокости, как в деле со своим племянником Дмитрием), расчетливым, циничным и авторитарным по складу характера политиком. Конечно, имперский посол С. Герберштейн вряд ли может считаться образчиком объективности и беспристрастности (что бы там ни говорили его «адвокаты»), однако определенная доля истины в следующих его словах есть. «Властью, которую он (то есть Василий. – В. П.) имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира … Всех одинаково гнетет он [жестоким] рабством…», – писал Герберштейн. И дальше он продолжал: «Свою власть он применяет и к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него»[35].
Стоит ли удивляться тому, что Василию пришлось столкнуться с оппозиционными настроениями и глухим недовольством и при дворе, и в среде аристократии и служилого «чина», и внутри церкви. Дело уже упоминавшегося выше Берсеня Беклемишева может служить тому ярким примером. Карьера Ивана Беклемишева при дворе Василия III явно не задалась, и, как отмечал А.А. Зимин, это вполне могло способствовать его недовольству и своим служебным статусом, и вообще персоной государя – «времена Ивана III, когда отец его (Ивана Беклемишева. – В. П.) был в зените славы и у самого Берсеня раскрывались широкие перспективы, рисовались теперь уже пожилому придворному в самом радужном свете, а годы правления Василия III – в темных тонах»[36]. Оказавшись чужим на празднике жизни, Берсень обвинял (и, надо сказать, не без основания) в том Василия III, позиционируя себя как ярого консерватора и сторонника «старины» и традиции. «Мы слыхали у разумных людей, – заявлял он в разговорах с Максимом Греком, – которая земля переставливает обычаи свои, и та земля не долго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, ино на нас которого добра чаяти». На слова Грека о том, что государям виднее, как переменять обычаи ко благу государства, Берсень ответствовал, что-де «лутче старых обычаев держатися и людей жаловати и старых почитати». Больше того (выдавая тем самым косвенно источники информации Герберштейна при дворе Василия III), наш «диссидент» заявил: «Ныне деи государь наш запершыся сам-третей у постели всякие дела делает»[37].
Далеко идущие последствия имел и вскрывший глубокие противоречия в правящей элите Русского государства нешуточный политический кризис, связанный с решением Василия III развестись со своей первой женой Соломонией Сабуровой из-за ее «неплодия» и жениться на Елене Глинской, племяннице «отъехавшего» в Москву в 1508 г. литовского магната Михаила Глинского. Хотя Михаил к тому времени давно сидел в тюрьме по обвинению в измене, это никак не помешало матримониальным планам Василия – юная Елена, судя по всему, в самом деле вскружила ему голову (по словам летописца, государь «зело възлюби ю лепоты ради лица еа и благообразиа възраста, наипаче же целомудрия ради, понеже обоа дарова ея Бог, благообразна и розумична»[38]).
Проблема второго брака великого князя и государя всея Руси, по словам отечественного историка Я.С. Лурье, подняла «множество острых политических и нравственных вопросов» (выделено нами. – В. П.). Действительно, речь шла не только о том, что в случае, если Василий бы не сумел развестись и остался бы в итоге без наследника, то после его смерти вокруг трона произошли бы масштабные перемены со всеми вытекающими отсюда последствиями и для персонального состава политической и административной элиты Русского государства, и его политического курса внутри и снаружи. Эти очевидные следствия кризиса, на наш взгляд, были менее важны, чем те, о которых писал Я.С. Лурье: «Поступок Василия III был вызовом традициям и церковным установлениям. Вставал, следовательно, вопрос о пределах власти „государя всея Руси“, о том, что сильнее: эта власть или вековой обычай, утвержденный церковью…»[39] (выделено нами. – В. П.). А если к этому добавить еще и неслыханный доселе для великих князей-ревнителей и защитников православной веры шаг Василия, который ради своей молодой жены пошел на то, чтобы сбрить бороду и тем самым «поругаться над образом Божиим»? Представ перед своими боярами и епископами с лицом, лишенным бороды, Василий объединил даже таких непримиримых противников, как ученейший митрополит Даниил (который, кстати, разрешил Василия от его брака с Соломонией Сабуровой) и неистовый инок Вассиан (Патрикеев).
Кризис, вызванный желанием Василия III жениться второй раз и понравиться молодой жене, благополучно разрешился (относительно, поскольку желанный наследник родился далеко не сразу и на этот раз – но об этом подробнее будет сказано дальше по тексту нашей книги), однако это вовсе не означало, что проблем стало меньше. Интересный образ морального состояния русского общества во второй половине правления Василия III рисует митрополит Даниил – человек, безусловно, весьма неординарный и вместе с тем неоднозначный. В своем богатом литературно-публицистическом (так его можно назвать, переводя на современный язык) наследии митрополит-книжник неоднократно касался проблем, которые породило в русском обществе разложение традиционной морали образа жизни (и случай с бородой великого князя был одним из тех примеров, который вызвал к жизни несколько гневных филиппик митрополита, обрушившегося с гневными укоризнами на тех, кто осмелился брить бороды).
Приведем лишь несколько из цитат из творений Даниила, в которых, конечно же, есть определенный элемент преувеличения, присущий любому публицистическому произведению (и традиционного недовольства отцов и дедов нравами нынешнего поколения), однако же есть и немалая доля истины (тем более что некоторые моменты подтверждаются сведениями из параллельных источников). Сетуя на падение нравов в современном ему обществе, митрополит обращался к своей пастве с вопросом:
«Откуду бо многогубительныя разходы и долги?» И, задав этот вопрос, давал на него ответ: «Не от гордости ли и безумных проторов и на жену, и на дети кабалы и поруки, и сиротство, и рыдание, и мичяние, и слезы? Всегда наслажениа, и упитениа, всегда пиры и позорища, всегда бани и лежание, всегда мысли и помыслы нечистыа, всегда празность и безумная тосканиа, якоже неких мошенников и оманников демонскым научением». Больше того, многие, считающие себя православными христианами, ведут, по мнению Даниила, и вовсе неподобающий образ жизни. Обращаясь к таким «помраченным», митрополит с горечью вопрошал, ради чего «ризы изменяеши, хожение уставляеши, сапоги велми черлены и малы зело, якоже и ногам твоим велику нужу терпети от тесноты и съгнетениа их сице блистаюши, сице скачеши, сице рыгаюши и рзаеши, уподобляася жребцу… Власы же твоа не точию бритвою и с плотию отъемлеши, но и щипцем ис корени исторзати и щипати не стыдишися женам позавидев, мужеское свое лице на женское претворяши»? Зачем, спрашивал тогдашних франтов и петиметров Даниил, благому же обычаю, простоте и кротости, и «съмирению, якоже боголюцем обычаи есть, целомудренно и смиренно житии е не мало хошещи навыкнути, но яко блудницам обычаи есть, сицев нрав твои уставляеши»? А дальше, отвечая на эти вопросы и показывая, в чем корень всех этих проблем, Даниил писал, что все эти беды связаны были с тем, что нынче «всяк ленится учитися художеству, все бегают рукоделиа, вси щапять торговании, вси поношают земледелателем». Вот так и не иначе – налицо всеобщее стремление к легкой и беззаботной жизни, «вси на земли хотят жити, вси по смерти жития не памятьствуют»[40].
Забегая вперед, отметим, что 25-й «царский» вопрос, заданный соборным отцам в 1551 г. на знаменитом Стоглавом соборе, гласил, что «по грехом слабость и небрежение, и нерадение вниде в мир в нынешняа времена: нарицаемся христьяне, а в тритцать лет и старые главы бреют и брады, и ус, и платье, и одежи иноверных земель носят». На вопрос этот соборные отцы ответствовали, ссылаясь на епископское поучение второй половины XV в., что-де «коейже стране законы своя и отчина, а не приходит друга к друзей, но своего обычая кояждо закон дръжит», почему и не стоит православным вводить поганских обычаев, но держаться своего[41].
Одним словом, к середине XVI столетия, к тому времени, когда повзрослевший Иван IV готовился принять бразды правления в свои руки, не все ладно было в Русской земле. Напряжение в русском обществе, которое интуитивно ощущало происходящие изменения в окружающем мире и чувствовало, что эти перемены явно были не к добру, исподволь росло, прорываясь временами наружу, причем оно затрагивало все его слои и страты. Причины этого недовольства и этих волнений как будто лежат на поверхности – в царстве, оставшемся без грозы (И. Пересветов), сильные стали притеснять слабых, нарушать Божии заповеди и вообще вести себя неподобающим образом, да и само общество было нездорово изнутри, разъедаемое, по мнению таких консерваторов, как митрополит Даниил, всяческими соблазнами. На растущее недовольство низов произволом со стороны «сребролюбцев богатых и брюхатых» накладывались и ухудшение природно-климатических условий, обусловленное наступление новой фазы малого ледникового периода со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для основы русской экономики того времени – сельского хозяйства, и разного рода природные и рукотворные катаклизмы, и растущая внешнеполитическая напряженность.
От верховной власти ожидали (случайно ли русские книжники еще со времен удельной старины разрабатывали учение об идеальном православном князе и его обязанностях перед Богом и «землей»?), что она возьмется за решение всех этих проблем и обустроит Россию образом, который устроит всех и вся. Эту сложнейшую задачу и предстояло решить Ивану Васильевичу, еще не Грозному.
Но как ее решать, если в распоряжении юного государя и его бояр не было ни соответствующей теории, ни наработанной практики, которые могли бы помочь в решении проблем, имевших мало общего с теми, с которыми приходилось сталкиваться прежде отцу и деду Ивана. И это не говоря о том, что сам Иван, формально принявший власть в 3-летнем возрасте, в отличие от Ивана III и Василия III, не имел на первых порах никакого опыта государственной деятельности.