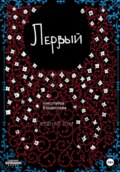Владислава Николаева
Непростые смертные
Часть I. До.
Посмотрим
Выхлоп кашлянул чёрным дымом. Открытый грузовик подскакивал по избитой дороге между низких рядов плодовых деревьев. Дороги не было, была широкая тропа для пеших крестьян. По пятам за небольшим грузовиком крался трофейный ройс. За дребезжанием подскакивающей рамы не было слышно рычания его мощного мотора. В ройсе сидело пятеро, все в фуражках с блестящими козырьками и гимнастёрках. В кузове грузовика собралась публика попроще, с непокрытыми головами, в домотканых рубахах. Вчерашние крестьяне громко разговаривали, перекрикивая натужные усилия двигателя. Оттянутые плодами ветви норовили выколоть глаз, выдрать клок волос, оцарапать кожу. Иногда вскрики подтверждали, что ветвям удавалась маленькая месть за вторжение в сад. Кто-то неугомонный встал на шаткое дно и начал размахивать в темноте шашкой под одобрительный смех. Ветки посыпались. Пассажиры ройса, прежде не испытывавшие дискомфорта из-за веток, начали невнятно материться. Останавливать разгорячённых и не очень умных парней не было толку.
Ядовитый выхлоп не был виден в ночи, только вонь раздражала тех, кто ещё не привык к этому угару нового времени, в котором всё так или иначе пахло палёным.
За ройсом ехал ещё один грузовик, на полпути, ещё у Крестовки лопнула шина. Грузовик едва не опрокинулся. Пришлось остановиться на срочный ремонт.
Не вовремя. Могли потребоваться все люди. Нужно действовать быстро… но откладывать больше нельзя.
Сад закончился, несколько гектаров ухоженных рядов яблонь. Курс на поместье. Стена, окружающая его, серела в темноте, стало быть, белая.
Когда затихли деловитые вибрации двигателей, резко стало тихо, только ахнула где-то в высоких дубовых кронах сова. Старый дубовый лес рос поодаль с незапамятных времён. Он тоже входил в территорию поместья. Наконец наступило время, когда незаконно захваченное у народа богатство послужит своей древесиной новому справедливому правительству. Спрут, подмявший под себя жирный кусок ресурсов, гребущий всё под себя… ему даже не нужен был лес, он его не пилил, не получал от него выгоды, говорят, даже не охотился среди высоких толстых стволов – он просто обладал им ради самого обладания, потому что не мог остановиться. Ничего. Остановим.
Буржуй стоял в воротах один. Совсем седой, сухой старик. Рассчитывал как прежде остановить народный гнев повелительным окриком. Прошло твоё время, гнилая развалина! Дожил на свою беду до воздаяния за грехи…
– Смотрите! – крикнул весёлый молодой голос. – Гордый!
Ворота в самом деле стояли нараспашку. За воротами простирались гектары народной земли, незаконно захваченные в единоличную собственность. Земля даже не возделывалась. Скамейки, беседки, фонтаны, искусственные пруды, роскошнейший дом с капителями… тьфу, буржуй.
Человек с водительского сидения ройса резко вышел, хлопнула дверца. Молодой человек с интеллигентным, как будто утомлённым привлекательным лицом, оправил узкий пояс с кобурой. Он значительно смотрел старику в лицо льдистыми глазами. Кончики пальцев, оставшиеся на поясе, подрагивали от внутреннего напряжения.
Он сделал четыре широких, размашистых шага и оказался к буржую ближе всех.
– Товарищ Горский!
– То же мне, товарищ! – не таясь, фыркнул молодой голос в темноте.
В движениях выпрыгивающих из кузова, интонациях их реплик, шуток рос ажиотаж, молодёжь уже едва сдерживалась, кто-то смачно сплюнул буржую под ноги. На сапоги плевать не стали; у старика были хорошие сапоги, высокие, начищенные, ни к чему портить. Сейчас его жизнь стоила меньше сапог.
Водитель ройса продолжил, не обращая внимания.
– Вы обвиняетесь в незаконном присвоении народной собственности! В хищениях в особо крупных размерах! По народным законам вы приговариваетесь к конфискации и ссылке!
Старик до сих пор молчал. В темноте не видно было его лица. Худая фигура жалко пыталась загородить собой бескрайний простор некогда своего владения.
– Куда? – коротко спросил он, как будто речь шла о чём-то незначительном, не имеющем отношения к нему.
Буржуи часто не могли обмозговать своим убогим умишкой, что всё – баста! Время ушло! Осталось только упаковать с собой сухари и стараться угодить товарищу командиру… но на самом деле старик был слишком богат, чтобы выжить. У него могло быть то, о чём не знало Народное правительство. Это «что-то» надо было у него забрать, а сам он вряд ли расскажет. Да и потом, не надо, чтобы он трепал языком…
– На север! – вообще выбор места ссылки был вне поля компетенции командира, его это не касалось и не интересовало, но он должен был ответить на единственный заданный, такой спокойный вопрос.
Старик вздохнул.
Пара удальцов из грузовика прошла мимо него в сад, небрежно смазывая буржуя. Сухая образина, высохшая мумия человека не шелохнулась.
– Пошли вон, – тихо сказал старик.
Такое бригада слышала не впервые. Этого было достаточно, чтобы взвиться, чтобы снять внутренние стопоры.
– Что ты сказал? – все слышали старика, все ждали этих слов.
– Пошли вон, – отчётливо повторил богач.
Сейчас старика изобьют. Учитывая возраст, пара ударов в область живота будет фатальной.
Буржуй был завораживающе богат. У него точно было место, где он прятал то, о чём не знал никто, кроме него. Что-то наиболее ценное, что-то, стоимость чего выходит за всякие лимиты. Его нужно было бы пытать, иначе не скажет… Но вчерашние крестьяне собирались нанести пару ударов в область живота, возможно ногами, и водитель ройса не хотел препятствовать. Он хотел видеть, как умрёт худосочный старик, хотел произнести над костенеющим телом последние слова, пока уши древнего существа ещё могут слышать.
Голоса замолкли. Люди полезли в грузовик. Управились быстрее, чем в первый раз, когда мечтали крушить дубинками пузатые вазы, хрустальные сервизы и мраморные балюстрады дорогого особняка.
– Что? – выдохнул молодой человек. – Нет! Вернитесь! Приказано! Конфисковать!
Водитель завёл мотор. Колёса грузовика завозились по узкой дороге, пытаясь совершить необходимый манёвр. Ройс едва не оказался под грузовиком. Кто-то из его пассажиров напугано вскрикнул, но никто в грузовике не обратил внимания. Грузовик словно онемел.
Через пять минут он исчез в темноте, только рёв мотора сообщал, что он едет по той же выбитой дороге под яблоневыми ветвями.
Молодой человек с ненавистью перевёл взгляд на старика. Буржуй не изменил позы, только теперь лицо его отчётливо усмехалось.
– Твоё время прошло! – гневно прошипел молодой командир.
– Посмотрим, – тихо ответил старик.

Часть II. После.
Послушаем
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Раньше комната была иной. Ветер вносился в открытую форточку и трепал лёгкие шторы цвета топлёного молока. Кровать манила белым облаком. На тумбе под рукой стояли симпатично подобранные женой золотые рамочки с чёрно-белыми фотографиями детей.
Ефим Степанович тяжко выдохнул в кислородную маску. Открытые форточки заменили уродливые коробки кондиционеров, облепивших дом по фасаду, как какая-нибудь зараза навроде лишая. Шторы те же, но плотно закрыты. Нет больше того ощущения свежести, словно мир лишился её, как лишается человек молодости. Родные лица на тумбочке сменили бесконечные ряды пилюль, призванных привязать жизнь к не раз штопанному одряхлевшему телу. И кровать – всегда она что ли так кряхтела и скрипела?
Ефиму Степановичу было неудобно, но он терпеть не мог беспокоить родных и даже звать медсестру. Забота очень трогательна, и отрадно, что от старика не отвернулись… но Ефим Степанович ненавидел быть стариком. Навязчивая забота только напоминала о зиме жизни. Поэтому он не звал скучающую в соседней комнате медсестру.
Наследство роздано. У Ефима Степановича не осталось ничего, чем он мог бы распорядиться, даже собственное тело не слушалось его. В доказательство своим мыслям мужчина с трудом шевельнул пальцем. На нём крепилась какая-то медицинская «прищепка». Ефим Степанович снова тяжко вздохнул. Руки немели, палец не чувствовал прикреплённый к нему датчик. Конец был близок. Был лишь один человек, которого он хотел увидеть перед смертью.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Это ныл привезённый в нагрузку к медсестре аппарат. Отсчитывал удары изношенного, как пара сапог, сердца.
Ефим Степанович вздохнул. Где же его посетитель?
Мужчина не подумал кое о чём – вдруг он откажется?
Кислородная маска давила на лицо. Ефим Степанович хотел бы снять её, да только боялся, что без неё не сможет дождаться того, кто единственный был нужен ему сейчас.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Вдруг не придёт? Ефим Степанович отправил за ним дочь, свою главную наследницу. Она уважала его, она постарается выполнить последнюю просьбу умирающего отца…
Однако может не выполнить. Не по лени и не из вредности. Даже не со страху. Хотя страх был бы вполне понятен.
Он мог отказаться прийти. Не будь он подозрителен, не дожил бы до своих лет. Ефим Степанович вспомнил, что нужного человека не раз пытались прикончить, пользуясь и более благовидными предлогами, чем просящий о последней встрече старик. Веру вселяло только то, что пуглив он не был. Подозрителен, но не пуглив.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Клаве ведь не придёт в голову попытаться избавиться от него? У неё вряд ли получится… да и вообще Ефиму Степановичу нужно было увидеть его напоследок…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Ефим Степанович не боялся за свою жизнь. Её осталось совсем немного. Лишь расточительный человек станет убивать того, кто и так скоро умрёт. До смерти был не месяц, не неделя. Смерть была даже не вопросом дней. Ефим Степанович готов был умереть прямо сейчас, но ему нужно, нужно было увидеть его напоследок. Только это останавливало.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Ефим Степанович уловил краем глаза открывающуюся дверь. Всего лишь Клава. Обычно он был рад дочери, но сейчас было поздно. Связи с миром живых обрывались. Он больше не принадлежал ему. Он подписал бумаги, сообщил ей свою последнюю волю, последнюю просьбу, больше ему нечего было ей сказать. Клава улыбнулась ободряюще, но не переступила порог. Ефим Степанович с трудом мог поворачивать голову. Увидел дочь мельком. Она только убедилась, что он не спит и ушла.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Запахи лекарств так далеки от свежести… Ефим Степанович закрыл глаза, а когда открыл— увидел крепкую загорелую руку, перевитую сизыми венами, сомкнутую вокруг верхней перекладины стула. Ефим Степанович взволнованно подобрался и поморщился от боли в груди.
Посетитель тем временем сел на стул, небрежно облокотился на левое колено. Он терпеливо ждал, пока сердце Ефима успокоится. Для него он был просто Ефим. Пронзительные на тёмном от загара и старости лице голубые глаза равнодушно скользили по обстановке. Его силуэт был в ней контрастным тёмным пятном. Он не снял свой чёрный плащ. Ефим знал, что он не тронет умирающего, но в первый момент, едва успев обрадоваться, испугался. Пронзительные голубые глаза. Хозяин подышал часто, комично раздувая щёки, однако тут было не до смеха. Ефим понял, что до последнего не рассчитывал, что приглашённый явится. Но вот он здесь. Редкая удача.
Мужчина ещё подышал. Не хотелось заставлять приглашённого долго ждать. Он пришёл, но как пришёл, так и уйдёт. Если Клава ничего не попытается сделать. Покушаться на него всё равно что рубить сук, на котором сидишь, и сук тот над самой пропастью. Кажется, он говорил об этом дочери. Её путь только начинался. Её сметут, если тёмных не будет отвлекать более заманчивая цель – он.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
Ефим вздохнул. Голубые глаза на аристократически снисходительном и философски равнодушном лице смотрели на него. В самом Ефиме никогда не было этой холёной загадочности. В сущности он был простым порядочным светлым, одним из многих… но, к сожалению, не таких уж и многочисленных, как тёмные.
Удивительно, что он пришёл.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Здравствуй, – от чистого сердца, но немного задыхаясь, сказал наконец Ефим.
Гость воздержался от пустых пожеланий. Ефим не обиделся. Желать здоровья умирающему – лицемерие.
– Рад, что ты пришёл.
Гость кивнул. Ефиму потребовалась минута, чтобы восстановить дыхание. Ему нужны были силы, отчаянно нужны! На последний разговор. Досада заставляла сердце биться тревожно, и это было больно.
– Знаешь… я… в глубине души я был уверен, что ты не придёшь… точно знаю – мне необходимо рассказать тебе… многое, но в голове ни одной путной мысли.
Лицо и поза гостя не изменились.
Ефима воодушевляло его терпение. В остальном им овладела паника – с чего начать? Единственное, что он знал точно – его рассказ будет откровенным.
– Да… вот и прошла жизнь… Помнишь, как мы встретились впервые? Кажется, случайно… хотя однажды мы бы всё равно встретились. Случайно, да… здесь, пожалуй, тебе видней, случайно или как… Я ещё почти ничего не знал о тебе и прочих. Сколько мне было? – Семнадцать, должно быть. Шёл тысяча девятисотый. Сказать кому сейчас, на ум придёт лишь учебник истории, а не живые лица… а для меня, для меня тысяча девятисотый сплошные лица… молодые лица с горящими глазами… контрастные плакаты на каждой вертикальной поверхности, красный, чёрный и белый, никаких полутонов… никаких компромиссов… Ровесники батрачили, крутились как могли… но то простые люди. Эту работящую нетерпеливую толпу приводили в движение несколько пришедших в Совет молодых наследников… как-то вышло, что именно в тот год их оказалось особенно много. Тогда я посчитал это хорошим знаком, все эти энергичные ребята: Феликс, Резо, Аника, Санька, Казимир… к слову, и Тариан… и Виктор… и другие, проявившие меньше интереса к революции… вспоминаю себя в тот год – столько неуёмной энергии, столько силы… на ногах ночи напролёт, не чувствуя потребности во сне…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– … сейчас понимаю – много новых молодых лиц верный признак того, что старые лица отправились на тот свет… ты знал их. Для тебя это должен был быть непростой год. Да. Ты вряд ли горевал по ним… но смерть всегда смерть и в ней мало приятного…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Голодные годы в тревожной стране, новые хозяева в старых дворцах… Юность так манят перемены, хочется быть на гребне волны, в авангарде, выражаясь языком того времени – хочется быть прогрессивным. Выступающие с трибун говорили убедительно, в большинстве их слушали нетерпимые голодные люди… но возможно сытые и нетерпимые поддаются духу времени ничуть не хуже… Отец уводил меня с митинга, втолковывал, что выступающего подготовил Казимир, и мне его слова принимать за чистую монету не стоит, он пытался объяснить мне, что наследник начинает говорить через посредников, только когда имеет необходимость сказать людям неправду, и при этом не уронить честь в Совете… первая хитрость, на которую он открыл мне глаза… отец объяснял мне это… тогда мы наткнулись на тебя. Отец, по-моему, не удивился. Мне было семнадцать, а ты, на мой взгляд, был стар. Я даже подумал про себя, что ты безобразно стар, и отец напрасно говорит о тебе таким нарочито уважительным тоном, как будто какой-то клерк лебезит перед начальником. Я даже был разочарован. В тебе, в Совете, в собственном отце. Прежде я верил, что в Совете невозможна фальшь… ты был анахронизм… я горячо верил, что тебя необходимо сместить… позже я убедился, что фальши в Совете предостаточно, но не по отношению к тебе… Как говорит твой недруг – тебя невозможно переоценить.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Тогда я увидел лишь развалину. Ты показался мне жалким.
На лице гостя не дрогнул ни единый мускул. Слова Ефима не задевали его. Вряд ли он услышал что-то, что не ожидал услышать.
– Отец сказал мне потом, что, когда его не будет рядом, а дело примет скверный оборот, я должен буду обратиться к тебе. Тогда я не принял его слова серьёзно.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Через два года начались высылки, миграции… Меня всё это напрямую не касалось, поэтому я принимал перемены с энтузиазмом. В тысяче девятьсот четвёртом умер отец. Он был дряхлый старик, не лучше меня нынешнего. Что ж. Мы увиделись снова на похоронах. Сейчас я понимаю, что другие претенденты на наследство не могли удалиться просто по этическим соображениям. Не знаю, есть ли в том твоя заслуга…
Лицо гостя отказалось выразить какую-либо эмоцию.
– … ну а кто ещё? – разумно предположил Ефим. – Откровенно говоря, когда мы стояли у незасыпанной могилы на кладбище, я думал, что следующую ямку выроют под тебя. Мы стали часто видеться на заседаниях Совета. Начинался новый, безумный энергичный век, было что обсудить. Ты был из того класса людей, которые могли проникнуть в новейшую историю только вперёд ногами. Признаюсь: мне не было дела до твоей судьбы. Обыски и грабежи продолжались, я становился старше и мне всё меньше это нравилось. А некоторые вроде Казимира, Аники и Феликса всё не могли остановиться… Тебе всё было нипочём. Тебя должны были смести. Ты был… один сплошной анахронизм… Я приходил в Совет, каждый раз ожидая увидеть на твоём месте кого-то другого. В тридцать четвёртом началась война.
Ефим посмотрел вдаль. Те годы представали перед глазами серыми, будто перепачканными грязью, посыпанные взорванной землёй и железными осколками… едкий черный дым пожарищ, огневые установки в ржавчине человеческой красной крови.
Мысли Ефима переключились.
– Наследники тогда озаботились потомством. Те, кто не обзавёлся детьми до войны, завёл их, включая бессмертного… Ольгерда. Те, у кого дети уже были, увезли их от греха вглубь страны. Таких войн ещё не было, никто не мог чувствовать себя уверенным. Смерть могла явиться в любой дом, забрать кого угодно… ну, кроме Ольгерда, конечно. Это сейчас я не боюсь смерти, а тогда… было страшно. Смерть была повсюду, буквально разлита по воздуху, смерть была написана над головами людей… говоря с человеком можно было вдруг разглядеть, как над его головой размахивается дуга – отметина приближающейся смерти. Некоторых из нас рвало от этого зрелища, пока не приходило отупление – слишком много смертей написано в воздухе. Его не хотелось вдыхать. Тёмные чувствовали войну по-своему. Думаю, для них смерть тоже читалась в воздухе, только запахами или предсмертными криками… Она их будоражила, как энергетик. Им не терпелось искупаться в кровавой бане, умыться в крови врага. К тому же у них был Ольгерд. Он ни на секунду не задумывался пойти на передовую или остаться в тылу. Он пошёл на фронт, и они ломанулись за ним, как олени за вожаком… тёмные есть тёмные… но ты… Я думал, война, каких не было, окажется той самой соломинкой, которая перешибёт твой хребет, как бревно. Ты привык к совсем иным войнам, таким, на которых в порядке вещей попить чай из фарфоровых чашек, сплясать на балу, помахать шпагой, попасть в плен, понравиться вражескому императору, получить компенсацию ущерба и героем вернуться в родное поместье…
Длинная речь заставила Ефима сбиться с дыхания.
– Но нет, – Ефим едва отдышался, – размазанная над головами смертников метка не вызывала у тебя ни тошноты, ни страха. Ты смотрел на них, как на меня сейчас…
Смысл сказанного запоздало дошёл до Ефима. Он хрипло рассмеялся. И он сейчас смертник.
– Кхе-хе-хе! – смех его больше походил на кашель. – В твоём взгляде ни тогда, ни сейчас не было жалости. Многие считали необходимым выразить сожаление, но не ты. Жалость оскорбительна? Тогда я посчитал тебя чёрствым… однако сейчас, когда над моей собственной головой уже, вероятно, зависла знакомая нам метка, я действительно не хочу жалости. Поэтому вместо всех дорогих мне людей у моего смертного одра сидишь ты.
Лицо гостя не изменилось. Умные голубые глаза смотрели на умирающего в собственной постели мужчину.
– Близость смерти не заставляет твоё сердце волноваться? – спросил Ефим. – Большинство людей боится находиться при умирающем. А ты – нет. И на войне было так. Тёмные рванули на фронт… не могу упрекнуть их в этом… хотя, пожалуй, им решение далось проще, чем миллионам простых людей… некоторые светлые тоже отправились на передовые… медиками… переводчиками… тыловиками… разведчиками, по всякому… старики вроде тебя должны были уползти в тыл. Многие так и сделали, и никто не упрекнул их – возраст. Но ты остался в Совете. Совет работал по-военному, никаких санкций за пропуски заседаний, каждое собрание экстренное, каждое строго деловое… Я не сразу узнал, чем ты занят. Знал, большинство ушедших на фронт светлых делегировали тебе свои полномочия. Я думал, тебя разопрёт от важности собственной персоны, и ты будешь являться на каждое заседание надутый, как индюк… о твоей деятельности я узнал далеко не сразу. Как-то ты не явился на заседание. Я подумал – откинулся наконец старик. Но Виктор, к всеобщему удивлению, сообщил, что ты устраиваешь диверсию с партизанами, и он сам немедленно отправляется к тебе. Я не поверил своим ушам. Потом выяснил, что ты начал закупать военную технику ещё в тридцать первом, и когда понадобилось, отдал её государству, что ты переделал свои заводы в патронные, что ты сам в ушанке и ватнике возил эти патроны на фронт в грузовичке, что в одиночку переходил линию фронта… ходил по оккупированным территориям…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Ты не знаешь. Я видел тебя. Четырнадцатого апреля тридцать шестого. Наблюдал через бинокль. С освобождённой высоты. Ты подорвал рельсы перед носом эшелона. Когда улеглись дым и пыль, тебя и след простыл… я думал, ты погиб… тебе даже приходилось таиться с партизанами в юго-западных пещерах…
Ефим посмотрел на посетителя.
– Я словно знал совсем другого человека. В день победы я уже не понимал, почему все чествуют Ольгерда, а не тебя. Он лишь отвёл веривших в него людей ближе к смерти. Он бесчувственен к смерти. Он равнодушен к ней. Он всегда лез в самое пекло, не думал об окружающих. Его отчаянность нравилась маршалам, но его люди были все смертники… кровь Варго на его руках… в то же время ты сделал всё, чтобы сократить напрасные жертвы… все чествовали Ольгерда… и ты сам хлопал ему и превозносил его оправданную временем кровожадность. О тебе не вспомнил никто, и государство не компенсировало траты. Ты будешь смеяться. Я не знал, есть ли у тебя семья, и твёрдо решил, что позабочусь о тебе, чтобы не загнулся на старости лет… Однако ты ещё не собирался помирать. Ты снова переориентировал заводы, занялся электроникой, поднял своё состояние из руин. Тогда я впервые осознал, что мне уже не семнадцать, а ты едва изменился. Открытие меня поразило.
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Я всматривался в тебя, будто брак выискивал. Но не могло быть ошибки. У меня глаза светлого, я вижу лучше других. Я замечал, что ты что-то делал с внешностью… есть ведь предел дряхлости, который способен воспринимать человек. Если перейти этот предел, люди будут воспринимать тебя настороженно и хуже будут поддаваться внушению. Корректировка внешности вроде бы пустяк, но попробуй сильно изменить внешность и походить так весь день, к вечеру будешь вымотан, будто таскал камни… Не знаю… возможно у тебя есть вещь, которая тратит энергию вместо тебя… ты ведь не скажешь… я чувствовал, что упускаю что-то… вижу, но не нахожу названия… и я вычислил, что это…
Ефим с хитрецой посмотрел на невозмутимого посетителя.
– Ты спрятал тело за мешковатой одеждой… да, возраст пригнул твои плечи, но большее ему оказалось не под силу… у тебя никогда ничего не болело…
Гость повернул лицо на зашторенное окно.
– Твои движения ни капли не изменились за годы. Моя жизнь прошла, а твоё тело не состарилось… Как?
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Я знаю, что произошло между тобой и Казимиром… Он собирался подстроить ограбление и твоё убийство в девятьсот шестом. Он был тёмный и не лучший из них. Он поехал убивать дряхлого старика и присваивать его состояние, но людей ты прогнал, а ему сказал – посмотрим. Посмотрим, кто на чьей могиле спляшет. Это даже не была угроза. Сухой старик, учащий молодого грабителя морали… Но я был в госпитале. Пришёл увидеться с Марией из рода Ратмира… меня, признаться, влекло к ней… я видел Казимира, кашляющего кровью, с перепуганными глазами… и ты был там – пришёл посмотреть. На лице Казимира был ужас, но он рассмеялся… жуткий смех… картина до сих пор встаёт в памяти… ты пришёл через оккупированную территорию, под обстрелами… ты пришёл посмотреть… и лицо твоё было таким, как сейчас… ты не злорадствовал, не жалел… ты пришёл посмотреть, потому что это было не пустое слово, а обещание…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Казимир умер через пару минут. Тогда ты повернулся и ушёл, обратно под обстрелы… я остался хоронить Казимира. Мария, должно быть, подумала, что я очень добрый человек… на самом деле я остался не ради Казимира. Я не хотел, чтобы он лежал в братской могиле, но не ради него или его рода, а ради погибших солдат…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Но ты… ты оказался хорош… уже тогда ты дал обещание… ты не даёшь обещание, если не считаешь возможным его выполнить… откуда ты знал, что проживёшь эти тридцать лет? Да и Казимир был ещё молод, он жил бы и сейчас, не будь войны…
Ефим поразился:
– Ты знал, что будешь жив и сейчас? Как?
Гость продолжал смотреть на шторы умными голубыми глазами. Ефим вовсе не рассчитывал получить ответы. Чего же он хотел? Быть выслушанным. Стать воспоминанием того, кто проживёт дольше. Он записывал себя, свою жизнь на его память, как на магнитофонную ленту. Получить ответы было не так важно, как остаться самим собой, вероятно, чего-то не понимающим, в чём-то наивным, но таким, какой есть.
– Никого нет старше тебя… в Совет приходят новые наследники, поражаются твоей дряхлости, взрослеют, стареют, дряхлеют, поражаются твоей подтянутости и энергичности, умирают… твой род зовут родом долгожителей… многодетным родом… хотя я ничего не знаю о твоих детях… ты очень осторожен…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Ты всё понимаешь, ты всё помнишь, – задыхаясь, проговорил Ефим. – Спасибо, что пришёл… мне нужно… было поговорить с тобой…
Пиип… пиип… пиип… пииип…
– Спасибо… думаю, Клава не знала бы, куда себя деть, если бы ты не пришёл… смерть не задевает тебя… а ей тяжело…
У Ефима смыкались глаза, едва удавалось вдыхать воздух. Сквозь полуоткрытые тяжёлые веки он видел, как гость легко поднялся, бесшумно подошёл к окну, резким движением раздвинул шторы и распахнул окно. Пахнущий зеленью и бензином воздух хлынул в комнату. Ефим радостно вдохнул его.
– Ты всё понимаешь, – повторил Ефим неожиданно чётким голосом. – Но похоже одну тайну я раскрою раньше тебя…
Гость не обернулся. Тело закоченело на кровати. Ефим умер успокоенным, на его губах даже осталась едва уловимая улыбка. Посетитель в чёрном по колено наглухо застёгнутом плаще смотрел в окно. Его лицо оставалось прежним, безрадостным, но не тревожным. Он оставил окно открытым. Прошёл мимо тела, не посмотрев, открыл незапертую дверь – Клава грызла палец, обливаясь слезами. В её глазах были неверие и обида, что один старик умер, а другой продолжает жить.
Гость ничего не сказал, только посмотрел пристально на Клаву и покинул дом размеренными твёрдыми шагами.

Часть I. До.
Берсерк
Уши слышат лишь собственное сбитое дыхание. Погоня – нечто сакральное, иначе быть не может. Тобой овладевает что-то, вселяется в тебя. У этого красные глаза и громко бьющееся сердце, оно шумно дышит, сглатывает копящиеся во рту слюни.
Сквозь помутившую склеры дымку трудно смотреть. Приходится часто моргать. Всё одно ни черта не видно.
– Дьявол!
Ругательства сыпятся с языка, словно сбегаются всякий раз со слюной ко рту. Сыпятся скверные слова, брызжет непроглоченная слюна. Вокруг бледные вытянувшиеся лица. Смешно, ох и смешно! Перепугались, ублюдки?! Грёбанные выродки, сучьи потроха!
Они не знают, что такое раж погони… точнее, знают, но знают, как некоторые знают слонов, ни разу их не видав. Они никогда не испытают его, а потому никогда не узнают что он. Рррррраж!
Невозможно остановиться, даже когда нет нужды двигаться с места. А? Да – как же нет нужды? Нужда, такая нужда, не остановиться. Ноги, полусогнутые в коленях, водят кругами по селению.
– Что встали, бляди? Что пасти разинули?
Смешно! Ох и смешно же!
Челюсти квадратные, башки без шеи к плечам крепятся, пальцы, как поленья, а рожи бледные и губы трясутся.
– Ублюдки! Суки!
Счастливая улыбка не сходит с лица. Погоня, раж тревожит горячую кровь, кровь предка, самого бога тьмы, и ты сам становишься как хренов бог тьмы! Ничто не остановит, ничто не сможет остановить, все и всё прогнётся, промнётся, будет сметено, втоптано в пыль, в прах…
Сглотнул слюну, ударил ногой в дверь – дверь с петель, как гнилушка, сзади руки, слабые, вялые. Наотмашь в рыло. Ублюдок скатился с крыльца. В сенях служанка. Забилась в угол, затаилась, думает укрыться в темноте. От меня?!
Тупая сука! Клинок ей в пасть до упора, прямо сквозь зажатые на губах пальцы, пока позвонок не чавкнет. Кровь во все стороны. Мечу нравится, он радостный и красный, праздничный. Ещё дверь – с петель. Мелкий крысёныш под лавкой. За шкирку рукавицей и без меча, так, ногой, хрустит хребет, крысёныш взвизгивает напоследок. Ещё дверь. Толстая сука с ключами на обширном поясе. Рука потянулась к связке, и тут её сучьи пальцы оттолкнули руку. Меч с радостью разделал тушу на три жирных куска.
– Падла вонючая!
Ключи и даром не нужны. Сапог встаёт на пухлую белую кисть, проминает хрустящие кости.
Дверь с петель. Ага. На этот раз не прислуга. Молодая сучка, ухоженная, бледная, как простыня, глаза вытаращенные. Бросается навстречу, берёт за руку, гладит, глаза молят, зажмуривается, устраивает тяжёлую руку себе на грудь. Рука сжимается, она пронзительно вскрикивает, но пальцами всё равно хватается за пояс, пытается вытянуть из штанов.
Как же ты ценишь свою никчёмную жизнь, сука. Баб что ли мало, чтоб о тебя мараться?
Сучка даже не думает, что кто-то может отказаться от обладания ей. Тянет к ложу, удар опрокидывает её на пол, она не сдаётся, зовёт с пола.
Оно с красными глазами и хриплым дыханием зовёт лечь сверху. Сучка думает, что совладала, но сегодня брачная ночь будет у меча.
Глаза таращатся и остеклевают, рот разинут до предела – но ни крика, лишь хрипы. Пахнет кровью. Никакой возможности остановиться. Зубы смыкаются на выставленном, неостывшем горле. Из укуса хлещет кровь, рука проворачивает меч, чтобы он как следует насладился первым разом. Всё влажно от крови, красно, празднично, тепло. От запаха трепещут ноздри.
Вышел на крыльцо пошатывающийся, пьяный. Погоня, травля, раж. Перемазанный кровью. Дыхание сбивчивое, лихорадочное, возбуждённое. У крыльца полукругом ублюдки с бледными рожами.
Ноги в развалку спустили тело с лестницы. Раж отпускал, красноглазое выпило красной крови и довольно уснуло, убаюканное предсмертными хрипами. Ноги послушно подвели к коню.