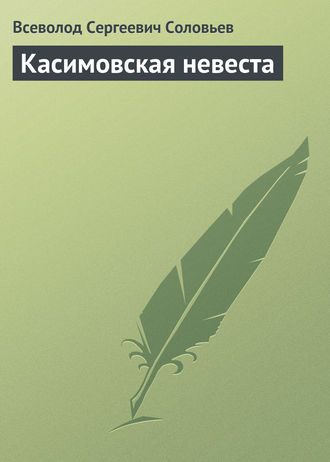
Всеволод Соловьев
Касимовская невеста
XIV
Бывало, весною, после долгих дней завернувшего ненастья, вдруг расступятся во все стороны гонимые ветром тучи, ярко загорится солнце, высушит землю, и тепло и свет ворвутся в тихую, уединенную горенку Фимы. И вместе с этим солнцем ворвется в душу Фимы нежданная радость, восторг непонятный. И спешит она из домика на крыльцо, а оттуда в рощу. Бежит, как зверек резвый, вся сияя беззаветным счастьем. Не видит она, что далеко уж отбежала от дома; не видит, что кругом нее древесная чаща. И вдруг остановится она, очнется, глядит с изумлением и трепетом. Давно ли была она здесь, с трудом пробираясь по сухой прошлогодней траве и черным слежавшимся листьям, между белыми яркими пятнами тающего снега. Далеко тогда было видно кругом. Из-за черных голых деревьев видна была отсюда крыша усадьбы, а с другой стороны сельские избы. А теперь вот ничего уж не видно! заслонили и крышу родного дома, и сельские избы – нежные, бледные, зеленые ветки. Под ногами уж не шуршат сухие листья, а сочная трава поднимается, и горят на солнце белые подснежники, желтые «крестики». Иные деревья еще без листьев, но уже налились их темные ветки, уж прорываются бледные почки. А над головой, вверху, хлопотливо перелетая с места, на место, голосят веселые птицы.
Фима стоит как очарованная, и не смеет шелохнуться, боясь помять бархатистую травку, первый цветок нежный. Солнце так и горит, так и искрится, и почти что видно, почти слышно, как от лучей его растут и распускаются почки.
Вот с темно-коричневых назревших веток тополей понесло теплым смолистым запахом. Фима всей грудью жадно впитывает в себя этот запах, и он туманит ей голову и сердце. Что такое творится с нею – она не знает, но бесконечно ее счастье, и жизнь вся кажется такой волшебной, радостной.
И долго– долго стоит она в блаженном забытьи, боится только одного – чтобы кто-нибудь не помешал ей, не вывел бы ее из этой сладкой дремоты…
Бывало, в конце лета, когда уже желтеет и клонится под тяжестью крупных зерен рожь высокая, а между стеблями ее выглядывают тысячи васильков, Фима в знойный полдень после долгого речного купанья бродит по узкой меже. Собирает она васильки и мак, устанет и ляжет, склонив к земле и примяв высокие колосья. Вокруг нее тихо, только шуршат ржаные усики, и со всех сторон стрекочут кузнечики. Высоко в темно-голубом небе плывут одно за другим облака. Прозрачный душистый зной пышет в лицо, и ей чудится, что каждый колос, каждая былинка, вся земля под нею знойно дышит. Мало-помалу что-то начинает ее убаюкивать, разбредутся мысли, и опять забытье блаженное на нее находит, и опять непонятная радость с тихой будто тоской, и опять она боится очнуться…
Бывало, темною зимнею ночью, среди сна спокойного, вдруг мелькнет какая-то неясная, бесформенная греза и принесет с собою это обаяние весны и лета, и шепчет что-то мучительно сладкое, несказанное. Проснется Фима, вся полна тревоги и блаженства, но нет ничего, напрасно зовет она снова мимолетную, мгновенную грезу – она не возвращается – и долго тоскует по ней Фима… Старая касимовская роща, желтая шумящая нива, ветхий полог ее девической постели, все это теперь так далеко… Кругом неведомые места, незнакомые люди, зима морозная, а ей чудится… весна, дни все ей чудятся ясные, песни… Весь зной летнего солнца, все грезы, все былое и сладкое. Вдруг нежданно вернулось – и принесло с собою столько блаженства, столько сладкой грусти и трепета, что никак не может очнуться Фима.
Давно покинула она терем царевен, домой вернулась, а все то же забытье, все тот же туман, та же волшебная сказка ее окружают. Безучастно и спокойно встречает она родных, едва слышит, что вокруг нее говорится, бессознательно отвечает на задаваемые ей вопросы. А расспрашивают ее со всех сторон, волнуются…
Тетка Куприянова таинственным и многозначительным шепотом объявляет, что она не раз слыхала, как в таких же случаях, когда царь выбирает невесту, он невидимкою высматривает привозимых во дворец девушек. Наверно и теперь царь видел Фиму, хоть и говорит она, что его не было в тереме.
Настасья Филипповна все крестится и шепчет молитву. Ей чего-то страшно и чует она всем сердцем, что готово совершиться для них великое событие. Раф Родионович молча ходит по горнице. Трудно решить, что у него в мыслях и в сердце, только вид его такой важный, торжественный. Одна Пафнутьевна спокойна и радостна; опять она хитро ухмыляется в свой старый дрожащий кулак и сама себе бормочет:
– Да чего уж тут, дело видимое – быть Фимочке царицей, давно я про то ведаю!…
– Да что же мы ей про Митю-то не скажем?! – вдруг, выходя из своего раздумья, проговорил Раф Родионович. – Фима, слышь ты, выпустили ведь Митю-то; забегал сюда он с час тому будет времени, хотел все тебя дожидаться, да вот они его отослали… Оно точно, время позднее, а завтра спозаранку здесь он быть обещался…
– Митя! – проговорила Фима – и замолчала.
И все на нее изумленно взглянули, такое равнодушие слышалось в ее голосе.
Она не думала о Мите. Она не понимала даже, что это говорят о друге ее детства, о ее женихе, которому она обещалась еще недавно отдать всю жизнь свою. Как в чаду прошла она в опочивальню, разделась. Странный, внезапный сон, как после какой-нибудь особенной усталости, охватил ее.
И она заснула. На время расступились и отошли от нее все грезы, все волшебство дивной сказки, что въявь совершалась теперь над нею…
XV
В большой изукрашенной палате государевой собралось немало бояр сановитых, которые получили приглашение присутствовать при долженствовавшем совершиться важном событии. Большинство бояр этих были очень не в духе. Их мечты и планы не осуществились. Не удалось им побороть Морозова, не выбраны их дочки и сродницы. Шепчутся бояре друг с другом, зорко озираясь во все стороны, чтобы не быть подслушанными. Бранят они всячески Бориса Ивановича и шлют ему такие пожелания, что если бы хоть малая доля из них могла сбыться, то пропал бы царский пестун и советник лютою и позорною смертью.
Но пока безвредна злоба боярская для Бориса Ивановича, только на сердце у него все же, как будто кошки скребут. Спозаранку он во дворце, не отходит от государя. И духовника притащил с собою. Твердят они оба Алексею Михайловичу все ту же сказку про жену добрую, про важность царского выбора, про красоту телесную и душевную Марьи Ильинишны Милославской.
А царь все отмалчивается; он их не слушает, он весь погружен в себя, никак не может справиться со своим волнением.
Страшный день, страшный час пришел. Прямо с постели почти бегом спешит он в Крестовую, бросается на колени перед иконостасом и жарко молится, со слезами и рыданиями. Давно он так не молился, всю душу свою детскую выливает он в эту молитву. А о чем молится, чего просит у Бога, за что благодарит Его, про то и сам не знает, только горяча и долга его молитва.
И, ободренный ею, он поднимается с лицом просветленным и ясным, вытирает свои слезы и спрашивает: все ли съехались, тут ли невесты?…
Невесты давно уже в палате царской, едва на ногах держатся от страха и ожидания. Бессонную ночь провели они, тоже молились немало и теперь стоят будто к смерти приговоренные, ожидая выхода государя.
Одна только Фима, как истукан какой, ничего не страшится, ничего не боится. После сна глубокого очнулась она освеженная. Мысли ее прояснились, туман расплылся, и горько-горько она заплакала.
– Боже мой! – обливаясь слезами, шептала она. – Что же мне теперь делать? Видно, враг лютый; видно, сам дьявол обошел меня. Царь выбирать нас будет, может, меня выберет… а я что же это?… ведь жених у меня, Митя, а мне его и не жалко, хоть пропадай он… Со мною, во мне навеки остаюсь те глаза, что вчера на меня глядели. Чьи они? Не сам ли то дьявол, принявший лик ангела? Ну что коли и взаправду царь выберет?! Боже! да не могу я, не могу!… я убьюсь, я что ни на есть поделаю с собою…
И в отчаянии она ломала руки, рыдала как безумная. Ее обступили со всех сторон: мать, Пафнутьевна, тетка.
– Фима, что ты, родная?! Опомнись, голубка, пора ведь и одеваться, скоро во дворец ехать!…
Но она еще пуще заливалась слезами.
– Не могу, не могу, не стану одеваться, не поеду, хоть убейте на месте!…
Напрасно старались они ее уговорить, успокоить. Напрасно, сами в отчаянии, твердили ей, что нельзя сегодня так плакать, что глаза от слез покраснеют, лицо опухнет… Ничего не помогало.
Больше часу металась и рыдала Фима. Наконец, совсем измученную, кой-как успели нарядить ее и со страхом и трепетом во дворец отпустили.
И вот она опять с избранными царскими невестами, окруженная боярами, среди роскоши царской. Ее порыв прошел. Снова туман прежний наплывает на нее, но в тумане этом нет уже прежнего блаженства, только тоска лютая сосет ее сердце.
Все пропало, вся жизнь ее кончена, не взглянут на нее те глаза милые, которые взяли и унесли с собою ее душу. Она стоит безучастная ко всему и ко всем. Не глядит на подруг-красавиц, не замечает их волнения, не замечает со всех сторон обращенных на нее взоров.
А между тем все собравшиеся в палате глядят на нее и дивятся красоте ее неслыханной. Напрасно домашние боялись, что глаза покраснеют и лицо опухнет!
Ну что же, вот и видно, что глаза заплаканы, видно, что неладное что-то творится на душе у девушки, а все-таки и с заплаканными глазами, с помертвевшим лицом она еще прекраснее, и нет сил от нее оторваться.
– Государь идет! Государь идет! – проносится вдруг по палате.
Невесты вздрагивают, как листочки осенние, а Фима и не слышит ничего. Машинально поднимает она глаза к дверям. И видит: выходят бояре важные, а между ними, в парчовой златотканой одежде, в дорогой, сверкающей каменьями шапке сам государь, видно. Но лица его разглядеть она не может: он отвернулся. За ним вчерашний страшный боярин с черной бородой.
Тоска сильнее на душе у Фимы, и к тоске этой теперь примешивается злоба. Не может она видеть чернобородого боярина!
Это он, колдун проклятый, со вчерашнего утра так заворожил ее, он ее сглазил. Опускает она глаза свои в землю и никого уж не видит.
А мысли, одна за другою, вихрем мчатся в голове ее.
«Да нет, – думает она, – не ко мне подойдет царь, не меня выберет; меня, может, и не заметит совсем… Ну а коли подойдет ко мне, коли выберет?! Брошусь я ему в ноги и скажу ему: не бери меня, царь-батюшка, не буду любить тебя. Убью себя, коли силой возьмешь. После речей таких неужто не отойдет он?… а там, после, пусть будет что будет, заодно ведь уж пропадать-то…»
Алексей Михайлович остановился посреди палаты, ответил на всеобщий поклон.
– Вот она, вот Марья Ильинишна, – шепнул ему на ухо Морозов, подавая на серебряном блюде кольцо и ширинку.
Молодой царь дрожащей рукой взял кольцо, взял ширинку и несколько мгновений стоял не трогаясь с места. Вдруг он поднял глаза, щеки его вспыхнули стыдливым румянцем, и он быстро сделал несколько шагов по направлению к девушкам-невестам.
У Морозова так забилось сердце, что он даже за бок схватился. Как коршун, следит он за каждым движением своего воспитанника…
Что же это? что же царь не глядит на Милославскую, не глядит и на сестру ее, он глядит, не отрываясь, на другую…
Побледнел, похолодел весь Морозов – сразу все понял он. Закипело злобой и болью его сердце.
«Увести его! увести нельзя… но ведь нельзя же допускать… Ведь это погибель!»– мелькнуло в голове его.
Всесильный боярин опустил руки и стоял немой и пораженный.
А царь между тем остановился перед Фимой. Она была все так же неподвижна, все так же глядела в землю. Прошло несколько мгновений. Царь хотел говорить – не мог, только смотрел на красавицу, только любовался ею. Наконец он пересилил свое волнение. Его губы шевельнулись, и, подавая Фиме кольцо и ширинку, он шепнул ей:
– Тебя я выбираю, будь моею женою, будь царицей!…
Притихнувшая палата мгновенно будто вся дрогнула, все задвигались.
Фима отшатнулась, взглянула на царя, узнала его… Все лицо ее преобразилось. С выражением бесконечного счастья кинулась она было вперед, но у нее подкашивались ноги, и, если бы царь не поддержал ее, она наверно бы упала. Царь взял ее за руку. Все находившиеся в палате бросились поздравлять их. Но оба они ничего не видели, ничего не слышали. Они чувствовали только милое прикосновение и, пораженные своим нежданным, великим счастьем, глядели друг на друга.
Нетвердою поступью подошел Морозов к жениху и невесте, поклонился им низким поклоном, поздравил с радостью.
Вздрогнула Фима и чуть не вскрикнула, когда взглянула на бледное, помертвевшее лицо его. Страшным, страшным казался ей этот колдун чернобородый.
И, действительно, он был страшен. Он чувствовал на себе глаза врагов и завистников, чувствовал все их злорадство. Ненависть и злоба душили его.
«Так не бывать же этому! – вдруг мысленно решил он. – Не бывать этому… Невеста царская не будет царицей!…»
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Зимняя вьюга стучалась и жалобно выла в маленькие окна, изнутри плотно прикрытые шелковыми стегаными подушками. В углу небольшого покоя, у богатого киота, теплилась лампада. Посреди стоял тяжелый дубовый резной стол; за столом, почти у самой стены, обитой алым сукном и увешанной всяким оружием, виднелась широкая лавка, покрытая пушистым персидским ковром. На столе горела толстая восковая свеча в серебряном шандале немецкой работы. Тут же, рядом со свечой, стоял вычурный жбан с романеей и золоченая стопка. На лавке, примяв парчовые подушки, полулежал Борис Иванович Морозов. Слабый двойной свет свечи и лампады озарял его бледное лицо, еще более выделяя его мрачную красоту, которая произвела такое страшное впечатление на Фиму. Густые брови сдвинуты, на высоком лбу две-три редкие морщины, глаза закрыты. Но не спит боярин. Он время от времени медленно протягивает руку к столу, наливает стопку вина и залпом ее выпивает.
Все тихо в новом богатом доме вдовца боярина – только и слышатся заунывные взвизги вьюги.
«Хотя бы забыться!» – думается Морозову. Но даже и крепкая заморская романея в этот долгий, мучительный вечер не приносит обычного забвения. Темно и страшно на душе у боярина. Хмурый вернулся он из дворца к себе, строго-настрого приказал холопам никого не впускать, и весь вечер думает свои мучительные, черные думы. Одурачили его, вконец одурачили! И так все это вышло нежданно-негаданно, словно бес подшутил – совсем глаза отвел ему. Касимовская бедная дворяночка посмеялась над ним, все его заветные планы разрушила, всю его силу в ничто обратила… Она царем выбрана, завтра царевной ее объявят; новые люди войдут в силу, а с ними вместе и их благодетель Пушкин… «Предатель Пушкин!» – почти вслух произнес боярин, и еще крепче сдвинулись его брови, и еще сумрачнее стало лицо его. – «Предатель, змея подколодная! И где это были глаза мои? Кто отнял у меня разум? Зачем я допустил его к государю, ведь видно было… а я, я на одного себя понадеялся, стыдно было испугаться этого червя негодного, а раздавить его вовремя не пришло в голову… И вот теперь он уж и не червь – с ним ладят все Стрешневы… поднялись враги старые!…» Совсем было извел всех врагов этих Борис Иванович, а в конце концов они все же его и подсидели! Что теперь делать? За что уцепиться? И ведь не на кого плакаться, не на кого вину свалить – сам во всем виноват, сам себе вырыл яму, погибель приготовил… Дело-то ясно – все это, конечно, они заранее подстроили у него под носом, а он и не догадался… Царь весь день как в тумане, совсем заворожила его красота невесты, дело сделано…
– Да нет же, нет! – уже совсем громко крикнул Морозов, вскакивая с лавки и снова опоражнивая стопку. – Невеста не жена еще, царевна не царица! Ведь не сейчас же свадьба, времени-то остается довольно, а нужный и надежный человек найдется.
И словно как в сказке, словно по щучьему велению, нужный и надежный человек уже был тут. Этот человек не первый день под разными личинами бродил вокруг Кремля, сходился с дворцового челядью, высматривал да выслушивал и доподлинно узнал все, что ему знать хотелось… Тихий, робкий стук раздался у запертой двери.
– Кто тут? – крикнул Морозов. – Ведь я сказал не впускать никого, чего там еще?…
Стук повторился. Боярин, весь дрожа от гнева, отпер дверь и увидел своего старого ключника.
– Чего тебе? Чего лезешь? Шутить, что ли, со мною задумал, собака?!
Он уже готов был ударить верного и испытанного раба своего, и раб уже спокойно ждал удара.
– Бей, боярин, – проговорил ключник, – только воля твоя, я тут ничего не мог поделать!… Вот какой-то человек неведомый лезет, не дает покоя, говорит, что ты сам приказывал прийти ему, что его дожидаешься… Коли лжет он, мы его в минуту скрутим… видно, он о двух головах…
Морозов остановился.
– Это еще что такое? Никому ничего я не приказывал. Какой еще человек? Веди его – что за притча?!
Через минуту на пороге слабо освещенной комнаты показалась рослая, плотная фигура. Морозов взглянул – человек ему неведомый, только все же что-то как будто знакомое есть в этом толстом красном лице. Какое-то далекое и неясное воспоминание промелькнуло перед боярином.
– Кто ты? Чего тебе от меня надо? – спросил он.
Неизвестный человек быстро затворил за собою двери и упал Морозову в ноги.
– Не гневись, великий боярин, выслушай… Кто я, тебе и знать нечего, не во мне дело. А коли вспомнишь давнишнее времечко, годы свои молодые, Настю из слободы стрелецкой, так и меня вспомнишь…
Боярин отступил, пристально вгляделся в человека, все еще стоявшего перед ним на коленях.
– Яшка! так это ты?! – проговорил он, и что-то дрогнуло в его голосе.
Он действительно вспомнил свои молодые годы, вспомнил Настю из слободы стрелецкой, Настю – красавицу и скромницу, сиротку, жившую у одного стрельца-пятидесятника. Вспомнил он, как за несколько рублевиков да за шубу с плеча боярского выкрал ему эту Настасью холоп Яшка, и как он же потом ее и спровадил неведомо куда, когда молодому боярину прискучила красота ее, ее неосушимые слезы. Опять мрачно насупились густые брови боярина – неприятное то было воспоминание.
– Чего же тебе нужно, холоп? – сказал он. – Служил ты мне, я платил тебе за твою службу – ну и все тут. А ты теперь, после стольких-то лет лезешь ко мне, ложью слуг моих одурачиваешь. Вон! не то, гляди, шкурой поплатишься за свою дерзость неслыханную! Я до озорства не охотник…
Но холоп Яшка не смутился от грозных речей боярина. Он продолжал стоять неподвижно на коленях.
– Новую службу могу сослужить тебе, боярин, – твердым и решительным голосом проговорил он, – и немалая та, видно, служба, коли я всякой неправдой дошел до тебя – выслушай только…
Морозов на мгновение остановился. Холоп поднялся на ноги и, прямо глядя в глаза всесильному боярину, выговорил:
– Ноне государь Алексей Михайлович выбрал себе в невесты девицу Ефимью Всеволодскую. Она из Касимова – и я из Касимова. Давно знаю отца ее, он враг мне лютый… и даже теперь вот, по его наговорам, великий государь приказал отыскать меня. Казни я жду себе – так вели же схватить меня, боярин, бить батогами нещадно и казнить лютою смертью.
Но Морозов стоял неподвижно, он сразу все сообразил.
Нужный человек, о котором он думал несколько минут тому назад, нашелся. Сама судьба посылает ему этого помощника, этого врага старика Всеволодского, холопа Яшку, смелость которого ему давно и хорошо известна. Яшка хитер, ловок, не остановится ни перед каким преступлением… Яшку разыскивают по приказу государя, а он вот сам пришел к нему, ближнему государеву боярину. Именно такого-то человека ему теперь и надобно. Только ему и можно поручить великое и тайное дело. Яшка отвечает своею головою… для себя будет работать…
И все эти мысли ясно прочел Яков Осина в черных глазах боярина.
– Говори дальше, я слушаю, – шепнул Морозов, присаживаясь на лавку.
– А и весь сказ мой таков будет, – почтительно, тихим и уверенным голосом начал Осина. – Не добро великому государю сочетаться браком с сей дщерью Рафа Всеволодского, ибо один обман тут и гибель царская. Девица сия сыздетства испорчена.
– Как испорчена? – вскрикнул Морозов. – Неужто правда?
Осина усмехнулся и покачал головою.
– Эх, боярин, вестимо испорчена, да вишь ты, про порчу-то ту я один только знаю, и коли ты прикроешь меня от врагов моих, мы с тобою надумаем, как это дело устроить…
Морозов подошел к двери, запер ее на ключ, сам налил и подал стопку с романеей Якову Осине.
И началась у них оживленная беседа, и длилась та беседа до глухой полночи. А расстались они, хорошо сговорившись друг с другом… Просветлело мрачное лицо боярина, да и приказчик Осина, выбравшись из его дома, имел вид человека, держащего в руках верную и богатую добычу.







