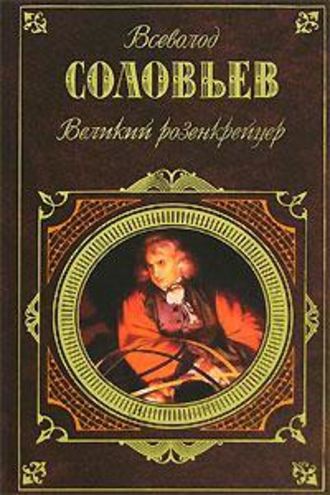
Всеволод Соловьев
Волхвы
Он уже сказал себе, что Лоренца ему необходима и что она должна принадлежать ему. Возможно ли это, честно ли, благовидно ли – ему даже не приходили в голову подобные вопросы, ибо если б они пришли, он решил бы, что невозможно, нечестно и недостойно. Но эти вопросы не могли прийти ему в голову – он давно отвык от них, давно жил на какой-то исключительной высоте, где существовал только один закон: его воля, его порыв, его желание, немедленно же приводимое в исполнение…
Знакомый голос отогнал его капризную, манящую грезу:
– Я жду, князь, нечего мечтать о черноглазой итальянке – успеешь.
Он вышел.
XVIII
Калиостро-Феникс был один в уединенной комнате, куда его провел Потемкин и где ему следовало дожидаться обещанной аудиенции. Несмотря на все свои тайные знания, он не мог слышать разговора, происходившего в кабинете императрицы. Но и без всяких тайных знаний единственно благодаря свойствам своей особенной, необычайно восприимчивой и чувствительной организации он понимал и ощущал то, что совершенно ускользнуло даже от внимательного наблюдателя. Эта врожденная способность проникать в сущность вещей и людей, вероятно, дала и все направление жизни и деятельности Калиостро-Феникса, а вся его жизнь, вся его деятельность были именно такого рода, что могли только развивать, совершенствовать эту способность.
Теперь, ожидая возвращения Потемкина, он изощрял и напрягал силу своего чутья, стараясь воспринять и понять эту новую, окружавшую его атмосферу. Его цели и замыслы были смелы и дерзновенны до крайности, он решил не останавливаться на полпути, стремиться достигнуть всего, поработить себе все и всех. Он находил, что чем смелее, чем шире цель, тем большего он может достигнуть.
Он хочет властвовать здесь, в жилище русской царицы; если он при напряжении всех своих сил и не достигнет этого, то все же легко достигнет такого положения в этом царском жилище, что успех его петербургской деятельности будет обеспечен со всех сторон и ему уже нечего будет бояться нежданного противодействия. Ведь он уже узнал, что царица недовольна «легковерием» Потемкина, он уже предупрежден, что как ни могуч Потемкин, – даже именно вследствие того, что им сильно дорожат, – тот, кто возбуждает легковерие светлейшего, кто его компрометирует, может внезапно и мгновенно, по одному слову и без всяких объяснений, быть выслан из северной столицы. Избавиться от возможности такой случайности, заручиться расположением царицы, уничтожить ее предубеждение, получить некоторое влияние над нею – разве всего этого мало, разве всего этого не вполне достаточно?! Поэтому и необходимо задаваться самыми смелыми и высокими планами, ибо если будет достигнута хоть половина, даже четверть задуманного, достигнутого окажется более чем достаточно для «общих» планов, все же остальное, что дает удача и счастье, останется в излишке как прибыль…
Ему надо было добиться только свидания с царицей, только бы она приняла его, остановила на нем свое внимание – и он победит ее, как побеждал всегда всех, как победил теперь Потемкина. Нет на свете человека, а уж тем более женщины, у кого не нашлось бы слабого места, ахиллесовой пяты. Весь вопрос в том, чтобы узнать, где именно это слабое, уязвимое место, и этим-то искусством он владеет в высшей степени, оно-то и составляет его главное, надежное оружие…
Он был крайне доволен, когда Потемкин повез его, наконец, к царице. Он чувствовал себя бодрым и крепким, оставшись один в уютной комнате, вокруг которой царствовала невозмутимая тишина. Но прошло несколько минут незримой, внутренней работы – и в нем поднялись новые ощущения. Он понял, что здесь совсем не то, что здесь, совсем иная атмосфера, чем в сказочных палатах Потемкина.
Ему казалось, что он среди неведомой для него и враждебной стихии, что перед ним стена, его останавливающая и стесняющая его свободу. Он испытывал такое ощущение, какое ему пришлось испытать, когда, несмотря на все его тайные знания и силы, к нему пришли, взяли его и повели, и он не знал, куда именно его ведут и когда, какими путями он снова выберется на свободу.
«Что же это? Предчувствие?» – спросил сам себя Калиостро и должен был себе сознаться, что его ощущения действительно более всего похожи на предчувствие грядущей опасности и неудачи.
Он вздрогнул, но не от робости, не от страха – препятствия, неудачи только разжигали его, только удваивали его силы. Ему со всей страстностью его горячей природы, обуздывать которую он, однако, давно уж научился, захотелось скорее очутиться лицом к лицу с грозящей опасностью, разглядеть ее, понять и начать с ней бороться.
Он не сомневался, что опасность заключается в самой царице – ни в ком и ни в чем более. Он уже несколько раз видел издали эту женщину, уже знал, что она очень сильна и тверда. Знал он также и все ее слабости, так как узнавал о ней ото всех и отовсюду. Ему пришло в голову действовать на нее только своим личным обаянием, действовать исключительно как на женщину, понравиться ей помимо всего, помимо всех своих тайных сил и знаний, увлечь ее своею красотою, чарами своих глаз, улыбок, своего горячего, сильного магнетизма…
– Пойдем к императрице, – сказал Потемкин, появляясь в дверях, – только должен предупредить вас, что она не в особенно хорошем расположении духа и что вам нелегко будет ей понравиться.
– Я и не смею рассчитывать на это, спокойным тоном ответил Калиостро, – с меня довольно чести быть принятым и беседовать с ее величеством.
Потемкин пожал плечами и окинул своего учителя довольно насмешливым взглядом. Однако его взгляд тотчас же изменил выражение: никогда еще не видал он Калиостро таким величественным, красивым, до такой степени исполненным спокойного достоинства. Он пошел вперед, движением руки приглашая итальянца следовать за собою.
Они в кабинете императрицы.
Калиостро привык ко всем приемам, и еще недавно он испытал высокомерный и презрительный прием, сделанный ему Потемкиным на вечере у Сомонова, но никогда еще не испытывал он ничего подобного тому, что ожидало его теперь. Он подходил к женщине, а увидел перед собою императрицу и в первый раз понял, что действительно существуют «императрицы».
А между тем Екатерина вовсе не хотела уничтожать его. Она могла быть самого невысокого мнения о человеке, но допустив его к себе, принимая его у себя, она не была в состоянии оскорбить его и унизить своими словами и обращением. Екатерина встретила Калиостро обычной любезной полуулыбкой и достаточно ободряющим тоном сказала ему, что он становится самым модным человеком в Петербурге, что он по слухам исцеляет самые трудные болезни, благодетельствует неимущим больным и что если так будет продолжаться, то в лице петербургских докторов у него может оказаться целая армия противников.
– Эта армия для меня не опасна, если ваше величество будет знать, что я действительно приношу моим ближним всю пользу, какую могу принести, – с глубоким поклоном отвечал Калиостро.
Он ответил так, как должен был ответить, не потерял спокойствия и достоинства, но это стоило ему огромных усилий. В первое мгновение он был поражен, холодное величие императрицы подействовало на него подавляющим образом. Однако прошла минута, другая – и он снова овладел собою. Все, что было в нем – силы жизни, воли, – сосредоточил он в своем взгляде. Этот взгляд притягивал и в то же время изливал потоки горячего света; он озарял все лицо Калиостро какой-то особенной, почти страшной красотою. Екатерина невольно глядела на него и думала:
«Да, этот человек может быть опасен… В его глазах целый ад… он смел и, конечно, ни перед чем не остановится… да иначе и не одурачил бы Потемкина… Если у его подруги такие же глаза и такая же смелость, эти люди могут много бед наделать… Но на меня ты можешь глядеть как тебе угодно, меня ты не зачаруешь, потому что я не верю тебе и не хочу верить…»
И Калиостро чувствовал, что вся его сила пропадает даром, он не мог подметить ни малейшего изменения в лице императрицы – между ними не протянулось ни одной связующей нити, между ними оставалась бездна.
К тому же он понимал, что ему даже не дадут времени для борьбы. Его спрашивали – он отвечал, но едва он хотел остановиться на подробностях, его тотчас же очень осторожно, но решительно останавливали и переходили к следующему вопросу.
На вопрос о его родине и происхождении, особенно в присутствии Потемкина, который сидел молча, угрюмо, пристально разглядывая свои ногти и перстни на пальцах, он должен был сказать, по возможности кратко, то же самое, что рассказывал у Сомонова. Но то, что там, среди составленной им цепи, при известном настроении показалось крайне интересным, заманчивым и не возбудило никаких сомнений, то теперь, в совершенно иных условиях, вызвало улыбку императрицы. Калиостро не мог не заметить этой улыбки, не понять ее смысла, и эта улыбка на него самого подействовала отрезвляющим образом. Его рассказ ему самому показался теперь и неинтересным, и невероятным. Он терял свой жар, свою самоуверенность, довольство собою – и в этом было его поражение. Между тем улыбка Екатерины исчезла и на ее лице мелькнуло даже некоторое раздражение. Брови ее сдвинулись, образуя на лбу глубокую морщину, голубые глаза холодно смотрели на Калиостро.
– Ваши таинственные приключения весьма занимательны, – сказала она, – но есть один вопрос, в ваших глазах, быть может, и незначительный, а для меня имеющий некоторый интерес. Видите ли в чем дело: у вас, насколько я могу судить, несколько имен… какое же из них ваше действительное имя?
Египетский иерофант должен был вспомнить все испытания, пройденные им в недрах пирамид, для того чтобы не показать своего смущения и остановить краску, готовившуюся вспыхнуть на его щеках.
– Благодаря моему непонятному прошлому я и сам этого хорошо не знаю, – произнес он с загадочной улыбкой.
– Очень жаль, – сказала императрица, – очень жаль! Я царствую в стране, где существуют установившиеся временем порядки и законы. Наши порядки и законы могут показаться вам странными и стеснительными; но как бы там ни было, в России все должны иметь одно подлинное имя и документы, доказывающие действительную принадлежность этого имени лицу, которое его носит…
Потемкин перестал разглядывать свои перстни и ногти, зашевелился в кресле и быстро взглянул на Екатерину, а потом на Калиостро. Вопрос о документах до сих пор ни разу не пришел ему в голову: Калиостро разгонял его скуку, Лоренца дразнила его воображение, и он только день за днем воспринимал получаемые от них впечатления.
«Неужто попался?» – подумал он. Но ему не пришлось остановиться на этой мысли и сделать вывод. Калиостро снова изобразил на лице чувство собственного достоинства и великолепным движением вынул из бокового кармана своего зашитого золотом и сверкавшего каменьями кафтана какую-то бумагу.
– Мои документы в порядке, ваше величество, – сказал он, подавая императрице бумагу, – я могу не знать своего действительного происхождения, я могу о нем только догадываться, наконец, это может быть моей сокровеннейшей тайной… Но ведь не я один в таком положении…
Глаза его горели, и он смело и глубоко глядел ими в светлые глаза императрицы.
– Наверное, и во владениях вашего величества, – продолжал он, – найдутся люди, действительное происхождение которых имеет мало общего с именем, которое они носят. А между тем их документы в порядке и признаются законными. Таков и мой документ, удостоверяющий, что я действительно тот, за кого себя выдаю, то есть граф Феникс, полковник испанской службы, числящийся в королевских войсках.
Императрица приняла бумагу, внимательно прочла ее и вернула Калиостро.
– Очень довольна, – несколько сухим тоном произнесла она, – что получила на мой вопрос ответ удовлетворительный… и надеюсь, граф, что вы не будете претендовать на мое любопытство… В моем положении мне приходится иногда быть любопытной за других, то есть исполнять не только свои, но и чужие обязанности…
Потемкин улыбнулся и встал с кресла. Аудиенция была закончена, и Калиостро выходил из кабинета русской царицы с полным сознанием понесенного поражения. Он сознал свою ошибку, но не мог решить, в чем она и откуда происходит. Быть может, никогда еще в жизни не отдавал он столько своей силы, той силы, в которую он верил и чудные действия которой он видел столько раз. С таким количеством затраченной магнитной силы он мог повлиять на всякую женщину, он заставил бы тревожно забиться самое холодное сердце, согрел бы самую холодную кровь… Или эта женщина – лед? Нет, она, быть может, более других способна живо воспринять внезапное впечатление… В чем же его ошибка? Он упустил из виду то, что в известном возрасте женщина может поддаться страстному впечатлению только в том случае, если она сама пожелает этого…
Оставшись одна, императрица несколько мгновений находилась в задумчивости, потом она подошла к письменному столу, покачала головою и занесла в свою записную книжку: «Справиться у испанского поверенного в делах Нормандеса о полковнике графе Фениксе».
XIX
– Уверяю вас, что и мне неприятно и просто тяжело так говорить с вами, но вы меня вынуждаете, князь, к подобному разговору. Я его избегала до последней возможности, я сделала все, чтобы естественно и спокойно заставить вас изменить ваш образ действий… Но вы или не хотели понять меня, или делали вид, что не понимаете…
Так говорила графиня Елена Зонненфельд, грациозно и устало склоняясь на высокую покатую спинку глубокого кресла в ее уютной гостиной, пропитанной тонким запахом каких-то неопределенных духов. Она говорила это князю Щенятеву. Он сидел перед нею, сверкая перстнями и аграфами, с лицом, залитым внезапной краской, с глазами, страстно и мучительно устремленными в глубокие и печальные глаза своей собеседницы.
– Графиня, – наконец выговорил он упавшим голосом, – неужели в моих действиях было что-либо недостойное и для вас оскорбительное? Мне кажется, я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволял себе ничего такого, чем мог бы заслужить гнев ваш…
– Вы и теперь не хотите понять меня! – более скучающим, чем раздраженным тоном перебила его Елена. – Дело вовсе не в моем гневе! Я знаю, что вы не в состоянии желать оскорбить меня и, следовательно, гневаться мне на вас нечего… Я не люблю недомолвок и фальшивых положений и не хочу их точно так же для вас, как и для себя… Буду говорить прямо. Мы с вами знакомы с детских лет и даже в дальнем родстве… Когда я вернулась прошлой весной в Петербург, я была очень рада снова встретиться с вами, так как всегда знала вас за доброго человека. Вы приняли, по-видимому, такое сердечное участие в моих делах, оказывали мне всякие услуги… Я благодарна вам за это, и вы знаете, что я принимала вас с удовольствием, что мои двери были открыты перед вами… Прошел какой-нибудь месяц – и я стала вас видеть всегда и всюду…
– Вы меня обвиняете в этом, а сами сейчас сказали, что встречали меня с удовольствием! – печально усмехнувшись, заметил Щенятев.
Но Елена не смутилась. Ее взгляд оставался все таким же печальным и равнодушным. Она продолжала:
– Я охотно видела вас как знакомого, родственника, но это не давало вам права сделаться моей тенью, а вы стали именно моей тенью… И вы даже ни разу не подумали о том, что так следя за мною, вы меня просто компрометировали.
– Отчего же вы прямо не сказали мне тогда же, что мое присутствие вам неприятно? Отчего вы продолжали ласково мне улыбаться при наших частых встречах? Зачем не изменяли своего со мной обращения?
Елена пожала плечами и с некоторым даже презрением усмехнулась.
– Вот, теперь я же оказываюсь виновной. Вы переходите в наступление! – воскликнула она. – Но это хорошо – я предпочитаю защищаться, а не наступать… Поймите, что я только теперь, в последнее время, увидела и сообразила все… Тогда же я так была занята своими делами, что ровно ни о чем не думала и ничего не разбирала. Вы были передо мною всегда и везде, иногда я не имела ничего против этого, иногда присутствие ваше казалось мне излишним… вот и все! Только месяца два тому назад на вечере при дворе я случайно услышала фразу… мое имя в этой фразе было соединено с вашим – и тон этой фразы мне не понравился… открыл мне глаза. С этого дня я стала наблюдать, с этого дня я сделала все, чтобы со своей стороны не подавать повода к толкам, очень для меня нежелательным, да и вас заставить быть внимательнее. Прямо говорить с вами об этом я не могла – вы относились ко мне всегда почтительно… Только раз у вас вырвался намек на такое чувство, какого я вовсе не желала в вас видеть – и я ответила вам довольно ясно… Если вы меня не поняли и даже не обратили никакого внимания на слова мои – виновата ли я в этом?.. Сегодня вы говорите прямо… Это уже не намеки – и вы даете мне право прекратить все это наше недоразумение.
Слезы стояли в глазах Щенятева; лицо его мгновенно побледнело.
– Графиня, – дрожащим от волнения голосом заговорил он, – не я вас не понимаю, а вы меня не поняли! Вы приписываете мне такое чувство к вам, какого во мне нет и быть не может!
«Что он говорит?» – пронеслось в мыслях Елены. Ей стало неловко, но он сейчас же и вывел ее из этой неловкости.
– Я знаю, что у меня репутация волокиты, – продолжал он, – и, быть может, я заслужил ее. Но вы очень ошиблись касательно моего отношения к вам… вы оскорбляете и унижаете мое чувство… Я никогда не думал и не думаю ухаживать за вами, je ne vous fais pas la cour – je vous aime!
Он в волнении поднялся с кресла и стал перед нею, прижав руку к груди, в патетической позе.
Она взглянула на него и отвернулась: он вдруг напомнил ей графа Зонненфельда и вызвал в ней к себе то же самое ненавистное, брезгливое чувство, какое она всегда испытывала, когда муж повторял свое «ja wohl!» и подходил к ней с намерением приласкать ее.
Между тем Щенятев, бледный и трепещущий, шептал:
– Я вас люблю на всю жизнь… я ваш раб… я всецело в вашем распоряжении… Если бы тогда так поспешно и так несчастливо вы не вышли замуж, я просил бы руки вашей… я опоздал… Вы уехали – и я никогда не мог забыть вас… если я заслужил мою репутацию легкомысленного волокиты, если у меня были истории, рассказы о которых ходят по городу, то это единственно вследствие того, что я хотел как-нибудь забыться, забыть вас… И не мог! Вы появились снова – и я ваш…
Он упал на колени перед ней. Елена с испугом от него отстранилась.
– Князь! Сейчас, сейчас встаньте – иначе я уйду! Я не могу допустить этого.
Он поднялся с колен еще более бледный, еще более трепещущий и растерянно глядел на нее.
– Так вы мне отказываете? Вы меня не любите? Вы не хотите забыть все это ужасное ваше прошлое, о котором вы мне говорили, забыть навсегда… как бы его не было… и стать княгиней Щенятевой? – лепетал он.
Елена опустила голову и медленно проговорила:
– Благодарю вас, князь, за предложение, которое вы мне делаете… я почла бы за большую для себя честь носить ваше старое русское имя… Я очень расположена к вам… но я не люблю вас так, чтобы выйти за вас замуж.
– Это ваше последнее слово? – отчаянно крикнул Щенятев.
Она вспыхнула.
– Разве я могу шутить этим, разве такие слова говорятся на ветер? – сказала она.
Но он уже ничего не понимал. В виски его стучало, безумная тоска сосала его сердце, и никогда еще Елена не казалась ему такой обольстительной, такой прелестной. Отказаться от нее он не мог. Она будет принадлежать ему, она ему обещана Фениксом… напрасно он поторопился сегодня, вопреки советам своего учителя… Необходимо сдержать свою страсть, надо владеть собою… и… раньше или позже, несмотря на этот отказ, хоть он и кажется решительным, бесповоротным – она будет любить его, будет его женою.
Он внезапно как бы охладел, опустил глаза, чтобы не глядеть на нее, не смущаться ее красотою, и вернулся на свое кресло.
– Графиня, – сказал он довольно спокойным голосом, – вы заставляете меня сильно страдать, но видно, такова моя судьба – и я бессилен перед нею. В моей любви к вам не может быть ничего для вас оскорбительного… вы жалуетесь, что я вас компрометирую… но, ведь, до сих пор и я, как вы, действовал бессознательно, я поддавался только своему чувству. Теперь я буду осторожен, я не буду всегда перед вами, не стану надоедать своим присутствием… только, молю вас, не гоните меня от себя совершенно, позвольте мне, хоть и не так часто, бывать у вас.
– Если вы сами находите, что вам не следует бежать от меня, если вы так благоразумны – я очень довольна… Как старого знакомого, как родственника я всегда готова видеть вас… но для этого нужно, чтобы наше сегодняшнее объяснение было первым и последним. Не думайте, что я могу изменить свое решение…
– Никогда, ни в каких обстоятельствах вы его не измените? – не утерпев, воскликнул он, поднимая на нее глаза и пожирая ее страстным взглядом. Но она не видела этого взгляда – она на него не смотрела.
– Никогда и ни в каких обстоятельствах! – повторила она его слова. – И только постоянно помня это, вы и можете встречаться со мною и бывать у меня. Вы должны заставить меня забыть все, что было до сегодняшнего дня и сегодняшний день, тогда мы будем друзьями.
Она сказала все это, как на ее месте сказала бы все это и всякая другая женщина. Она не могла запереть двери перед человеком, только что предлагавшим ей свою руку и свое имя. Она говорила себе, что любовь, возбужденная женщиной и вдобавок безо всяких с ее стороны стараний, нисколько не может быть для нее обидной, а даже напротив того, должна считаться для нее лестной. Мужчина, предлагая свою руку и свое имя, если он делает это сознательно, доказывает женщине высочайшую степень своего к ней уважения, подносит ей драгоценнейший и прекрасный дар.
Наконец, она хорошо знала, что по понятиям среды, где она вращалась, дар князя Щенятева именно для нее должен казаться особенно драгоценным: ведь он, предлагая ей свое старое знаменитое имя, выводит ее из весьма фальшивого положения. Ведь у нее теперь нет никакого имени – ей странно снова называться княжной Калатаровой – ее продолжают называть графиней Зонненфельд, но уж одно простое чувство справедливости и человеческого достоинства запрещает ей носить имя человека, совершенно ей чужого, освобожденного от всяких перед ней обязательств.
Отец ежедневно твердит ей о настоятельной необходимости выйти замуж, «исправить» свое фальшивое положение. Об этом же твердят ей родные, намекают знакомые. Но, конечно, ни на одно мгновение не остановилась она на мысли о возможности для нее нового замужества – разве она порвала свои цепи для того, чтобы надеть на себя новые?
Щенятеву не на что надеяться, мало того, если бы она могла, если бы считала себя вправе, она запретила бы ему показываться ей на глаза. Она всегда к нему хорошо относилась, но с некоторого времени его присутствие ее раздражает, приводит в какое-то странное, неприятное состояние. В этом человеке есть как бы что-то новое, чего прежде не было.
Вот и теперь… он будто успокоился, он держит себя скромно и даже с достоинством… а ее раздражение все растет и растет. Зачем он не уходит, и отчего она сама не может прервать этого неприятного свидания? Что такое происходит между ними?..
Наконец Щенятев стал прощаться, В то время как он почтительно поцеловал ее руку, она ясно почувствовала трепет, пробежавшей по всему ее телу; голова ее вдруг отяжелела. Но он ушел, и вслед за его исчезновением исчезли и все эти неприятные, странные ощущения.







