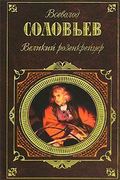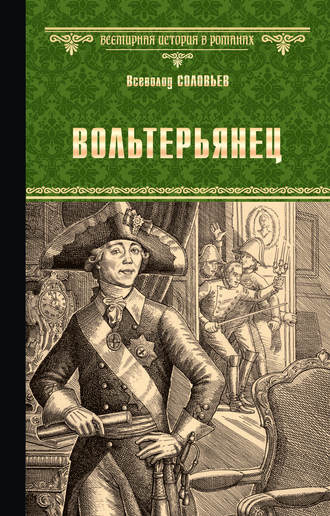
Всеволод Соловьев
Вольтерьянец
VIII. Следы времени
Следующий день был воскресенье. Около одиннадцати часов утра Сергей, в полном мундире, вышел на подъезд своего дома и, садясь в карету, велел ехать во дворец.
Едва он завернул на Невский проспект, как заметил огромное движение: всевозможные экипажи, перегоняя друг друга, стремились в одном и том же направлении. Блестящие, вычурные кареты новомодного фасона, старинные, огромные рыдваны, запряженные шестерками, с форейторами и гайдуками, открытые коляски и, наконец, одноконные дрожки, блестящие мундиры придворных и разноцветные наряды дам, помещавшихся в экипажах, толпа глазевшего люда на панелях – все это представляло такую пеструю и оригинальную картину, от которой Сергей давно уже отвык. Он прожил несколько лет в самых людных городах Европы, видел народные сборища и всевозможные процессии на улицах Парижа и Лондона, но все это было совсем другое и производило иное впечатление. Здесь бросалась в глаза совершенно своеобразная пестрота и роскошь – смесь Европы и Азии.
Площадь перед дворцом была буквально запружена экипажами. К дворцовому подъезду приходилось уже подвигаться крайне медленно. Но вот карета остановилась, лакей распахнул дверцы. Сергей очутился на знакомой лестнице. Когда-то полный надежд, смущения и любопытства, он всходил по этим ступеням; теперь ни надежд, ни любопытства, ни смущения в нем не было, была одна скука, одно тоскливое чувство. На лестнице, в сенях и в первых комнатах происходила страшная толкотня и гудел несмолкаемый, глухой говор. Ливрейные лакеи стояли шпалерами с верхним платьем своих господ; перед зеркалами теснились дамы, поправляя прическу; всюду сновали расшитые мундиры кавалеров, всюду сверкали ордена, звезды и ленты.
С большим трудом удалось Сергею пройти в дверь, но, кое-как преодолев препятствие, он наконец очутился в большой зале, уже почти битком набитой народом. Эта зала была рядом с придворной церковью; двери туда стояли настежь, и ощущался запах душистого ладана, доносилось церковное пение и возгласы священнослужителей. Оказалось, что Сергей несколько опоздал, обедня уже началась. Государыня с членами императорской фамилии и свитой уже находилась в церкви. Сергей попытался было протискаться вперед, поближе к широким дверям, так, чтоб можно было разглядеть что-нибудь. Ему вдруг захотелось издали взглянуть на императрицу и на цесаревича, но он должен был отказаться от своего намерения: всем не попавшим в церковь хотелось того же, чего и ему, и поэтому у дверей нельзя было упасть и яблоку, поневоле приходится остаться и удовольствоваться теми наблюдениями, которые представляла окружавшая толпа.
Сергей стал отыскивать знакомые лица и скоро заметил их среди блестящих мундиров и пышных дамских туалетов. Он наблюдал изменения, произведенные временем на этих лицах, вдруг пришедших ему на память, так ясно, в таких подробностях, как будто он вчера еще только расстался с ними. Но времени прошло много – восемь лет не шутка. Люди, бывшие тогда во цвете лет, теперь уже начинали стариться, красивые молодые женщины поблекли, а главное – все это как-то выцвело, как-то приняло общий бледный, однообразный оттенок, краски жизни потускнели. И показалось Сергею, как и вчера в приемной Зубова, что все эти кавалеры и дамы, старцы и молодые – похожи друг на друга, у всех у них было общее, привычное, застывшее выражение. Но рядом со знакомыми, постаревшими и выцветшими лицами, которых было очень немного, он увидел новых людей. Этих новых людей было несравненно больше. Все это появилось, все это устроилось после него, во время его отсутствия. Да, много прошло с тех пор, много воды утекло…
Кругом шел тихий говор на всевозможных языках, и это смешение языков производило тоже очень странное впечатление, от которого так отвык Сергей. С каждой минутой ему становилось все скучнее, и все больше и больше казалось ему, что он здесь совсем чужой, совсем оторванный, не имеющий ничего общего с этой толпою, живущей не понятными ему интересами.
Но вот разноязычный шепот сменяется иными звуками: громче и громче доносится из церкви пение двух хоров, и в этом звучном, могучем, за душу хватающем пении слышится Сергею что-то родное, совсем было позабытое. Давно не слыхал он этого пения, совсем он отвык от него; ему вспоминается детство, вспоминается Горбатовская церковь, воскресная обедня: грузная большая фигура отца с его орлиным профилем, благоговейно полузакрытыми глазами… Красноватая рука размашисто кладет крестное знамение… Рядом с отцом стоит мать, с выражением доброты и не то робости, не то ласки… И она тоже горячо молится, ежеминутно опускаясь на колени… А вот и маленькая сестра, вот и Таня, которая изредка, украдкой бросает на него взгляды и улыбается ему своими живыми горящими глазами. Куда девалось все это, и что от этого всего осталось? Вот уже и матери нет на свете, сестра – она замужем, она еще недавно известила о рождении второго ребенка, но вряд ли она и узнает брата при встрече. Он покинул ее девочкой, теперь она женщина, какая, что из нее вышло – он совсем не знает.
А Таня? Где Таня? За границей он ничего не мог узнать о ней, а теперь еще и некогда было навести справки. Сестра, будто нарочно, в своих редких письмах ничего никогда о ней не сказала, да он и не спрашивал. Таня, уезжая, обещала ему дружбу, но не сдержала этого обещания. Она только известила его тогда же, лет семь тому назад, что, вероятно, навсегда уезжает с матерью из деревни, что, вероятно, поселится в Москве. Так, должно быть, она и теперь в Москве, может быть, вышла замуж: хоть бы взглянуть на нее, хоть бы услышать ее голос, чего бы ни стоило это свидание, какую бы тоску не принесло оно!..
«Нет, скорей, скорей отсюда на свободу! Умолю государыню отпустить меня, – думал Сергей, – неужели она мне откажет! Я должен спешить в деревню, я должен быть через несколько дней в Москве. Я отыщу Таню!..»
Обедня кончилась.
Будто электрическая искра пробежала по зале, поднялось всеобщее движение. Напирая друг на друга, все теснились вперед; у дверей появился гофмаршал и объявил, что государыня выходит из церкви.
Мгновенно замолк разноязычный говор, все будто застыли, и только по временам слышалось однозвучное покашливание. Все лица были обращены к выходу из церкви, все шеи вытянулись, люди малого роста становились на цыпочки, выглядывали из-за счастливцев, которым удалось поместиться в первом ряду. Из дверей церкви появляются новые лица и становятся тоже рядами – это послы, министры и уполномоченные иностранных дворов, представители всевозможных наций. Проходит еще две-три минуты, и из дверей попарно показываются камер-юнкеры и камергеры, за ними следуют министры. Сергей глядит на них и замечает прибавившиеся морщины, признаки старости и утомления на их лицах. Вот и знакомое ему, хитрое и веселое лицо графа Безбородки, которому он еще не имел времени представиться. Но и Безбородко уже постарел, и в нем заметно что-то новое.
Когда министры прошли, появился в своем сверкающем мундире, со своими бриллиантами Зубов. Зала дрогнула. Зубов подвигался своей обычной, неровной и нервной, походкой, изредка кивая то направо, то налево головой.
– Ну, все обстоит благополучно – его светлость, кажется, в духе! – расслышал Сергей чей-то шепот.
Действительно, лицо у Зубова было довольное, улыбающееся, но Сергей сейчас же и отвел от него глаза: на пороге показалась императрица.
Что-то шевельнулось в сердце Сергея, какое-то позабытое чувство… Он вспомнил эту дивную и привлекательную женщину, вспомнил свои долгие беседы с нею и последнее свидание, вспомнил то благоговейно восторженное чувство, которое испытывал к ней в годы юности. Теперь к остаткам этого чувства примешивалась жалость. Он заметил, что она изменилась более других, он увидел, что перед ним не прежняя Екатерина. Она сильно пополнела, так, что даже на ходу несколько качалась из стороны в сторону. На ней был парадный, старинный русский костюм, состоявший из шелкового бледно-голубого сарафана, обшитого золотым кружевом; поверх него была надета темно-синяя бархатная широкая безрукавка. Пышные кисейные рукава, собранные в мелкие складочки у кисти, скрывали ее тучные руки, поражавшие прежде своей красотой. На голове помещалась высокая диадема, сверкавшая множеством драгоценных камней, на шее колье, отливавшее всеми цветами радуги. Грудь императрицы была украшена двумя лентами и двумя бриллиантовыми звездами: андреевской и георгиевской. Лицо ее еще несколько удлинилось, а подбородок еще более выступил вперед, так что рот углубился и придавал лицу старческое выражение, несмотря на все искусство, с которым она была набелена и подрумянена. Но глаза ее оставались все еще прекрасными, все так же ясно и ласково блестели, и по-прежнему она улыбалась своей привычной, величественной и благосклонной улыбкой.
Выйдя из церкви, императрица остановилась на мгновение, а потом стала подходить то к одному, то к другому, разговаривая и милостиво протягивая свою руку, которую целовали те, к кому она обращалась с приветствиями. Но Сергей уже не мог следовать за нею и вслушиваться в слова ее: он видел другое лицо, появление которого заставило дрогнуть его сердце: у дверей появился цесаревич.
Боже мой, он ли это! Как он постарел, как изменился! Он казался таким мрачным, таким раздраженным. Презрительное выражение его оригинального некрасивого лица делало его совсем недоступным и объясняло новому человеку его отчужденность. Но ведь Сергей не был новым человеком: он все знал и все понимал, и теперь он пытался проникнуть выше этой презрительной улыбки, этих расширенных раздражением ноздрей, ему нужно было видеть глаза цесаревича, полузакрытые, усталые глаза, в которых он всегда целиком выражался и которые только и могли ответить на все обращенные к нему вопросы. И вот наконец поднялись эти синие глаза, и Сергей понял, что цесаревич все тот же, что он только еще больше утомлен и измучен тяжелой болезнью и трудной, неустанной борьбой.
Сергей едва удержался, чтобы не броситься вперед, ему навстречу, едва осилил свое волнение.
Рядом с цесаревичем шла великая княгиня; вот она так почти не изменилась. Все так же молода и красива и такой же добротой и лаской сияет нежное, прелестное лицо ее. А за нею кто же это – два стройных юноши, из которых один совершенный красавец. Другой далеко не так красив, но Сергею дорого это живое, поминутно изменяющее свое выражение лицо, это вздернутый нос с тонкими ноздрями. Дорого ему это лицо большим сходством с лицом цесаревича.
Они давно уже не дети, совсем взрослые люди, даже оба уже и женаты. Что-то сталось с ними? Что из них вышло? – И эти молодые, цветущие лица ответили ему, что дурного ничего не вышло.
За великими князьями шли их сестры, одна другой красивее, и среди них старшая, счастливая невеста юного шведского короля, воспевать бракосочетание которой приготовилась лира Державина.
Но Сергей опять должен был оторваться от своих наблюдений: императрица была в двух шагах от него, и вдруг он встретился с взглядом ее голубых глаз.
– Господин Горбатов! – проговорила она с ласковой улыбкой, и рука ее приподнялась по направлению к нему.
Мгновенно все, что было вокруг, что теснилось и давило друг друга, отступило, пропуская Сергея вперед. Он почтительно, чувствуя невольный трепет и что-то странное, что подступило к груди его, целовал руку императрицы и взглянул на нее еще раз.
– Давно, давно не видались, – сказала она. – Я рада вас видеть и надеюсь, что немало интересного от вас услышу.
Он кланялся, ища слова: но слов было не нужно – государыня уже прошла дальше.
Великая княгиня, отойдя от мужа, появлялась то здесь, то там, для всех находила улыбку и приветствие.
Цесаревич подвигался медленно, редко кого удостаивал разговором и вообще казался очень рассеянным.
Сергей пробрался вперед и очутился перед ним.
– А! – сказал цесаревич, крепко стискивая ему руку. – Пройди туда, ко мне…
Сергей двинулся через залу, вслед за толпой…
IX. Загадка
В зале великого князя происходило опять то же самое, то есть все теснились вперед, все старались попасть на глаза хозяину. Однако здесь чувствовали себя, очевидно, не так стесненными, разговаривали несколько громче.
Павел Петрович подходил почти к каждому; не отставая от него, следовала великая княгиня и своею любезностью сглаживала впечатление, производимое мрачным видом и односложными фразами великого князя.
Молодые великие князья держали себя очень сдержанно. Они были прекрасно воспитаны и уже умели, в особенности старший, Александр, придавать значение каждому своему слову, каждому движению и улыбке.
Гофмаршал представил им Сергея Горбатова. Они оба любезно сказали ему, что не забыли его и даже напомнили несколько эпизодов из прежнего времени.
Обойдя всех, великий князь вышел на середину залы и наклонением головы отпустил присутствующих. Толпа начала расходиться, зала опустела, но Сергей медлил. Он чувствовал, что уходить ему еще не время, и он был прав.
Когда уже почти никого не осталось в зале, великий князь подошел к нему и положил, как бывало, ему на плечо руку.
– Вот и ты здесь, Сергей Борисыч, – сказал он. – Ну, что сударь, покажись-ка! Нехорошо… Бледен… видно, не красно жилось.
– Не красно, ваше высочество, да что толковать об этом. Сегодня я счастлив – я вижу вас и все ваше августейшее семейство. Я изумляюсь и радуюсь, глядя на великих князей и княжен.
– Да, выросли, меня переросли. Ну а жена, как ее находишь?
В это время подошла великая княгиня и, как всегда, мило и просто заговорила с Сергеем, вспоминая прежнее время.
– Ваше высочество, имею ли я право поздравить вас с семейной радостью? Я знаю, что это еще не объявлено…
Великий князь нахмурился.
– Благодарю тебя, – проговорил он. – Да, конечно, это может быть и радостью, но, к сожалению, я не так доверчив, как другие. Я совсем почти не знаю жениха моей дочери, и вопрос о том, будет ли она счастлива, для меня остается вопросом пока без решения. Значит, радоваться еще рано… Он почти еще совсем ребенок, что из него выйдет?! Я всего три раза его видел, но хочу надеяться, что он человек хороший, все его хвалят…
Великая княгиня улыбнулась своей милой и несколько печальной улыбкой.
– А я знаю одно, – сказала она, – если мне так же затруднительно будет выдавать замуж всех моих дочерей, как эту дочь, – я умру в дороге. Я почти каждый день приезжаю сюда из Гатчины, чтобы видеть их. Я должна же постараться узнать его, его характер, убедиться в искренности его чувства, иначе как же я отпущу ее – у меня и дня спокойного не будет; вот и езжу каждый день почти. Впрочем, я к этим поездкам привыкла…
Великий князь нервно повел плечами и нахмурился еще больше.
Сергей стоял, печально опустив глаза, и думал: «Все то же самое! Все неизменно! Да, дядя Лев Александрович прав – у них нужно учиться терпению».
– Теперь о тебе поговорим, сударь, – сказал Павел Петрович. – Как видишь, мы тебя не забыли, но стоишь ли ты этого? Я еще не знаю. Надеюсь, однако, что образумился и сделался серьезным мужем, пора ведь – уж годы немалые.
– Я не знаю ваших обвинений, ваше высочество, и потому не могу защищаться, да и, во всяком случае, я защищаться не стал бы, скажу только одно, что теперь, кажется, от меня – каким я был восемь лет тому назад, – ничего уже больше не осталось.
Павел улыбнулся.
– Если ничего, так это плохо, напротив, многое должно было остаться, и если я увижу, что прежнего совсем нет больше, то тебя и знать не захочу. Ну и скажи мне, прежде всего, помнишь ли ты, что я говорил тебе перед твоим отъездом, о том аде, в который ты должен был попасть и в который ты, кажется, хорошо окунулся? Прав я был или нет? Хороши оказались результаты этих общественных движений, как вы их называли?
– Результаты ужасны, ваше высочество, и отвратительны, но, может быть, эта гроза очистила воздух и послужит знаменательным уроком для будущего. Человечество не может, не должно забывать подобных уроков.
– Пустое, все забывается и никакого очищения воздуха я не вижу, напротив, воздух заражен, и следует принимать все меры, чтобы очищать его. А у нас только говорят об этих мерах и ничего не делают. Если всеобщая распущенность была отвратительна восемь лет тому назад, но теперь она стала еще отвратительнее. Я удивляюсь, как мы все еще не задохлись в этой атмосфере. Обо всем этом мы еще поговорим с тобою в Гатчине. Постарайся найти возможность заглянуть ко мне, мне нужно порасспросить тебя о многом, ведь недаром же ты там прожил столько времени, ведь, я чаю, многого навидался, так интересно будет послушать твоих рассказов. А теперь скажи мне, что же ты намерен делать? Зачем сюда пожаловал?
– Вы знаете, ваше высочество, что в течение восьми лет моей мечтой было вернуться в Россию, и если только теперь я мог осуществить эту мечту, то не моя в том вина. Вы, может быть, слышали, что я лишился матери…
– Да, слышал и подумал о тебе…
– Так вот, ваше высочество, нужно было бы мне съездить в деревню, многим распорядиться, окончательно разделиться с сестрою. Я хочу проситься в отставку.
– Я думаю – выпустят, – заметил Павел, – только повремени немного, обожди… Не надумал ли жениться? Может быть, сыскал себе невесту? Или здесь поискать намерен?
– Нет, ваше высочество, я о женитьбе не думаю.
Павел опять положил руку на плечо Сергею, а другой рукой взял его за пуговицу. Это была его привычка, и он делал так, когда бывал особенно чем-нибудь заинтересован или взволнован и когда собирался сообщить собеседнику что-нибудь очень важное.
– Послушай, ведь, насколько я помню, тогда еще у тебя была невеста, ты сам однажды мне про нее говорил.
– Была, – смущенно ответил Сергей.
– Где же она? Что сталось с нею? Каким образом расстроилось это дело?
– Зачем вы меня спрашиваете, ваше высочество? Мне кажется, что вы и так все знаете.
– Ну хорошо… да, знаю… Но скажи ты мне, сударь, как ты полагаешь, кто был причиной того, что твой брак не состоялся, – ты или твоя невеста?
– Конечно, я.
– Значит, ты признаешь себя виновным перед нею?
– Признаю, и эта мысль до сих пор отравляет многие минуты моей жизни.
– Значит, ты сожалеешь – говори правду.
– Глубоко сожалею, ваше высочество.
– И никто потом не заменил для тебя ее? Ты ни к кому не привязался? Ты был бы, пожалуй, счастлив, если бы снова встретился с нею, если бы все прежнее забылось и вы могли бы сойтись на всю жизнь?..
– О, это было бы большое счастье, но я о нем и не мечтаю, я не знаю даже, где находится в настоящую минуту, свободна ли она? Может быть, она уже замужем. Я еще час тому назад думал о том, что прежде всего должен разузнать про нее. Полагаю, что она в Москве.
– Ты все это говоришь серьезно?
– Разве я когда-нибудь иначе говорил с вами, ваше высочество?
– Да бог же тебя знает – ведь сам же сейчас объявил, что ничего прежнего в тебе не осталось, а тут и оказывается все прежнее! – улыбнувшись, сказал Павел. – Так, значит, правда, значит, не позабыл ты княжну Пересветову, Татьяну Владимировну – видишь, я хорошо помню ее имя. Но ты слушай: узнавать о ней тебе нечего – я имею о ней самые верные сведения и сообщу их тебе, когда приедешь ко мне в Гатчину… и, пожалуйста, поспеши – мне о многом нужно переговорить с тобою. У меня даже есть для тебя подарок, но прежде его заслужить нужно, и я должен убедиться, достоин ли ты этого подарка. Теперь же некогда, прощай, до свиданья! Поди простись с женою…
Цесаревич опять стиснул ему руку и уже с иным выражением в лице, не мрачным, не раздраженным, а довольным вышел из залы.
X. Ожидание
Свидание с цесаревичем подействовало самым нежданным и благотворным образом на Сергея, сразу осветило внутренний мир его, разогнало его тоску и скуку. Столько лет ему было как-то холодно и неприветно в жизни, и эта жизнь, с виду такая блестящая, представлялась ему тяжелым и неизбежным бременем. И вдруг, нежданно и негаданно – тепло, вдруг пахнуло чем-то родным, дорогим…
У Сергея друзей не было и почти единственным близким себе человеком считал он своего карлика Моську, но, конечно, этот друг не мог удовлетворить его.
С отсутствием горячих привязанностей могут уживаться только очень холодные, себялюбивые и самодовольные люди, да и тем подчас становится невыносимо душевное одиночество, а Сергей вовсе не был ни холоден, ни себялюбив. Он нуждался в сердечной привязанности, но судьба отнеслась к нему жестоко, оторвала его на долгое время от всего, что было ему близко, от всех, кого любил он в годы юности.
Его чувство к цесаревичу восемь лет тому назад было восторженным, молодым чувством. В долгой разлуке оно не исчезло, но, естественно, должно было ослабнуть. Оно таилось где-то там, глубоко в сердце, и вспыхивало только тогда, когда подливалось в него масло, когда какое-нибудь очень редкое обстоятельство напоминало ему в далеком Лондоне о цесаревиче. И, во всяком случае, Павел Петрович превращался для него мало-помалу в воспоминание, уходил в прошедшее. В настоящем его не было, а о будущем Сергей старался не думать.
Но вот он здесь! Он снова его увидел и с первых же слов его убедился, что прежняя связь не порвана, что цесаревич, несмотря на долгую разлуку, на тревоги и заботы своей нерадостной жизни, не забыл его и относится к нему с прежней, пока еще ничем не заслуженной им добротой.
Теперь в Сергее уже не было восторженного ребяческого чувства, оно видоизменилось, оно осмыслилось. Он сознавал, что глубоко предан этому человеку, что готов пойти за него и в огонь и в воду и потому что он стоит этого, но было и другое… Сергей полуинстинктивно, полусознательно чувствовал, что так относиться к цесаревичу – его долг, его священная обязанность. Это было что-то традиционное, что-то родовое, наследованное от отца. Сергей так думал и чувствовал, потому что он был сыном Бориса Горбатова. Как отец любил Петра III и служил ему, так сын теперь любил и готов был служить сыну Петра III.
Взгляды старика Горбатова, из-за которых он заперся на всю жизнь в деревне, теперь вдруг передались сыну. Восемь лет тому назад он и не думал об этом, но теперь все сложилось, все выяснилось, и он смотрел на Павла не только как на человека, достойного привязанности, не только как на великого князя, который выказывает ему особенные знаки милости, он глядел на него, как на своего законного государя.
Да, тут было что-то традиционное, родовое. Там, в Гатчине, его настоящее место; ведь он еще перед отъездом за границу просил цесаревича принять его к себе на службу. Тот отказал ему, любя его и думая об его выгодах. Восемь лет прошло! Долгие, печальные восемь лет! Но теперь нужно наверстать потерянное, нужно наконец оказаться при своих законных обязанностях.
От мысли о цесаревиче Сергей переходил к другим мыслям. Он не мог не заметить особенного выражения в лице Павла, когда тот спрашивал его про Таню… Он сообразил и еще одно обстоятельство: «Ведь про нее тогда никакого разговора не было!.. Он совсем не знал, что я был женихом, а теперь сказал, что ему это было через меня известно. Он хочет сообщить мне про Таню, значит, он заинтересован ею… Но откуда же он все знает?!»
И вспомнилось ему, что ведь Моська, провожавший Пересветовых в Петербург, был тогда с его письмом в Гатчине. Моська, вернувшись в Лондон, ничего ему не рассказывал, но старик ведь хитрый, наверное, он все тогда рассказал князю!..
И вот, вернувшись домой из дворца, он позвал карлика и прямо спросил его – откуда цесаревич знает Таню?
У Моськи глаза заблестели, сморщенное личико сделалось таким счастливым, таким плутоватым. Но он упорно молчал и только усиленно сморкался, что обыкновенно делал в минуты смущения.
– Что же ты молчишь, Степаныч? Разве не слышишь, о чем я тебя спрашиваю? Говори мне правду, без всякой утайки, наверно, всю мою подноготную цесаревичу выболтал, когда с моим письмом являлся в Гатчину?
– Эку старину вспомнил, батюшка Сергей Борисыч! – наконец проговорил Моська, и в то же время глаза его бегали с предмета на предмет и все никак не могли остановиться на Сергее. – Эку старину!.. – повторил он и все сморкался, и все краснел, очевидно, еще не находя выхода из своего затруднительного положения.
– Не вертись, Степаныч, не серди меня даром. Коли спрашиваю, значит, надо, и ты должен отвечать мне. Ведь я тогда от тебя путного слова не мог добиться!.. Ну, да время было такое, не до расспросов. Сказал ты мне, я помню, что цесаревич сам тебе ответное письмо вынес, что пошутил с тобой. А больше я ничего не помню, больше ты мне ничего не рассказывал…
– Да и я тоже ничего не помню, золотой мой!
– Не вертись!.. Был разговор обо мне и о княжне Татьяне Владимировне?
Карлик почесал за ухом.
– А дай-кось вспомню! Было что-то такое, точно – было.
– Ты жаловался на меня, конечно?
– Жаловался, батюшка, это помню теперь, сильно жаловался его высочеству.
– Ну и что же он?
– А вестимо что – не стал хвалить твою милость, даже словом нехорошим обозвал.
– Каким словом?
– Словом-то каким? Ну, уж коли так тебе любопытно, я тебе скажу, каким: дураком он тебя обозвал, вот что!
– Дальше!
– Дальше! Пожалел он нашу княжну, сказал, что ты ее недостоин и что он ей лучшего жениха, чем ты, найдет… Ну, вестимо, обидно мне это было слушать, а слушал, потому что его высочество правду говорить изволил… И сам я с ним был во всем согласен.
– Степаныч, о твоих согласиях я вовсе не спрашиваю!
– А уж спрашиваешь, нет ли, а велел все припоминать – я и припоминаю.
«Лучшего жениха сыщет!.. Не узнавать о ней, не побывав в Гатчине!.. Подарок мне приготовил, да хочет знать, стою ли я его!..» – быстро мелькало в голове Сергея.
И вдруг радостное предчувствие поднялось в его сердце.
– Степаныч, а не говорил он тебе, что княжну хочет видеть?
Карлик опять начал сморкаться, и опять глаза его забегали во все стороны. Наконец он оставил в покое свой нос и с отчаянной решимостью развел руками.
– Этого, батюшка Сергей Борисыч, хоть убей – не помню!
А потом, совсем переменив тон и заглядывая в глаза Сергея с кошачьей ужимкой, он пропищал ему:
– А что, золотой мой, видел ты нынче цесаревича?
– Видел.
– Ну и что же он, наш милостивец, в добром ли здоровьи?
– Ни на что не жаловался.
– А ну, как он с тобою-то? Как всегда, что ли? Хорош был?
– Хорош.
– В Гатчину поедешь?
– Поеду, Степаныч, и даже вот когда – завтра рано утром поеду! Завтрашний день еще урвать можно, а то боюсь, как бы разные дела не стали задерживать.
– А меня-то, сударь, возьмешь с собой?
– Зачем?
– Да уж возьми, сделай Божескую милость!
– Могу взять, только ведь в Гатчине порядки строгие – пожалуй, меня с тобой не пропустят, чти ты тогда будешь делать?
– Пропустят, батюшка, меня и не заметят совсем, а коли заметят и станут спрашивать – я прямо скажу, что его высочество приказал мне явиться… И не солгу, и не солгу, как перед Богом, пускай их самих спросят – они припомнят! Так и сказали: «ежели когда будешь в Петербурге, навести меня» – это их слова доподлинные…
– В таком случае поедем. Распорядись с вечера.
Моська оживился и радостно вышел от своего господина. Он был, очевидно, в каком-то особенном возбужденном состоянии, он будто помолодел, так и вертелся, чуть не прыгал. Диву даже далась, глядя на него, многочисленная горбатовская прислуга.
Сергей весь день никуда не выезжал. Приводил в порядок свои бумаги, разбирался. А мысли его становились все радостнее и радостнее, доброе предчувствие усилилось. Ему казалось, что он снова начинает жить, и эта новая жизнь сулила что-то хорошее, что-то счастливое.