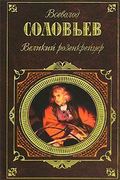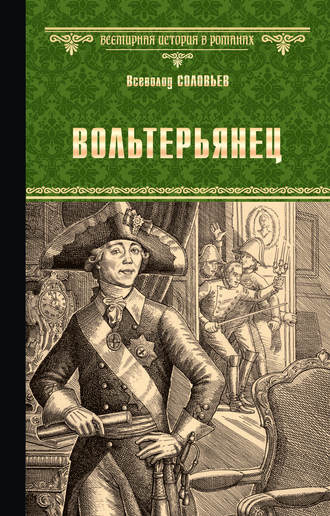
Всеволод Соловьев
Вольтерьянец
XI. Разгадка
На следующее утро, ранним-рано, выехал Сергей с карликом в Гатчину. Та же пустынная однообразная дорога, те же впечатления. Те же впечатления и при въезде в Гатчину: пропасть караульных, вытянутых в струнку, всюду только фигуры солдат, чинность и порядок. Здесь время будто остановилось.
Бедный карлик застрял в дворцовых сенях – дальше его не пустили. Но он шепнул Сергею:
– Пройду… такое слово знаю, дойду до самого цесаревича, вот увидишь, батюшка.
Дежурные пригласили Сергея в приемную. Те же самые маленькие, просто, почти бедно обставленные комнатки с низенькими потолками, та же монастырская печальная пустота.
Сергею пришлось дожидаться довольно долго – великий князь был занят где-то вне дворца, да и из приближенных его никого, вероятно, не было. Сергей поместился на жестком стуле и невольно ему взгрустнулось.
Разве так должен жить цесаревич? Разве так должна проходить его жизнь? По тому, что он успел уже увидеть, ему начинала все яснее и яснее представляться ненормальность этой уединенной, странной жизни: дисциплина маленького войска, доведенная до необыкновенного совершенства, эти маленькие смотры, маневры, ученья… и так годы, десятки лет – игра в солдаты, которая не приносит никаких результатов, до сих пор от этой игры не видно никакой пользы. Гатчинцы вымуштрованы, но над ними только смеются, а петербургская гвардия и вообще все русское войско становится все более и более распущенным. В этом маленьком отдельном мире чувствуется что-то душное и в то же время фантастическое, даже нездоровое. Да, вредно жить в подобной атмосфере – можно отвыкнуть от действительной жизни!
Но скоро Сергей от мыслей перешел к другим – к мыслям радостным, к ожиданию, которое не покидало его со вчерашнего дня и заставило так спешить сюда. Однако минуты проходили, он все был один, и тихо было кругом него, только раздавался стук старого маятника. Неужели так-таки никого и нет?
Он вышел из приемной и, увидав дежурного офицера, стал спрашивать о своих здешних знакомых, о том, скоро ли вернется цесаревич. Но офицер не знал, где цесаревич, да и вообще не смел разговаривать. Сергей должен был отойти от него и опять вернуться в приемную. Однако скучать ему не пришлось – скоро к нему вышел старый знакомец, Кутайсов; они встретились приятелями. Кутайсов, очевидно, теперь чувствовал себя еще лучше, чем восемь лет тому назад. Он раздобрел несколько, но мало состарился, и в его приемах и манерах оказывалось необыкновенное чувство собственного достоинства и в то же время благодушная снисходительность. Глядя на него, никак уже нельзя было сказать, что это бывший пленный турчонок-цирюльник: он держал себя если не хозяином, то, во всяком случае, близким другом дома и как друг дома счел своею обязанностью обласкать Сергея. Он сказал, что цесаревич будет здесь с минуты на минуту, болтал, переходя с предмета на предмет, занимал гостя своим разговором.
– Вот-с, как видите, Сергей Борисыч, – говорил он, – у нас все то же, мы не двигаемся, да оно и хорошо – сами посудите: где движение, где перемены в предметах, там перемены и в людях, а у нас все на своем месте, и люди все те же, и уже кто раз попал к нам, кого мы полюбили – так и остаемся… мы не изменчивы. Сколько времени вот с вами не виделись, а, увидите, все вам обрадуются… ну, а там-то, чай, ведь не так – там забывчивы.
– Да, это истина, – ответил ему Сергей, – только что же вы как будто оправдываетесь? Я ведь с вами не спорил и ни в чем не порицал здешних порядков.
– Не сказали – так подумали! – приятно улыбаясь своими сочными губами и показывая два ряда белых зубов, проговорил Кутайсов. Петербуржцы все смеются над нами, замороженными нас называют… Живем-с как можем – не по своей воле… Только вот-с беда, скажу вам откровенно, цесаревич-то… ох, как меня тревожит!..
– А что? Разве нездоров он?
– Не то-с, нездоровья не видно, хотя ведь он, собственно говоря-с, крепким здоровьем никогда не отличался, но он такую жизнь ведет, что поддерживает себя: как один день, так и другой – никаких излишеств, по-прежнему чем свет на ногах, в движении, закалил себя… А другое тут – грустить стал часто. Мрачен иногда так бывает, что ничем и не развлечешь его, пуще прежнего раздражителен стал. Доброту его вы знаете – добрее я человека не видывал – и терпение тоже великое у него. Не будь терпения, разве такую жизнь можно выносить?.. Но в мелочах-то… в мелочах все и сказывается. Ведь уже сколько лет я думал об этом и так решил всегда, что следовало бы ему на чистый воздух вырваться, освежиться, проехаться… осмеливался даже и докладывать об этом… и что же бы вы думали? Слышать не хочет! Ну-с, а дело в том, что все идет хуже и хуже, и коли еще так долго будет, так я уж и не знаю…
Но Кутайсов не договорил, дверь отворилась, и в приемную своей твердой военной походкой, в высоких ботфортах, с большой треугольной шляпой под мышкой вошел Павел.
– А, Горбатов!.. Спасибо, сударь, что ждать не заставил. Не чаял я, что ты сегодня будешь, спасибо, это хорошо!
Он взглянул на часы.
– Уже и полдень скоро. Кутайсов, вели лишний прибор к обеду поставить… проголодался, чай, да и я тоже.
Кутайсов, уловив какую-то мину на лице Павла, вышел из комнаты.
Сергей остался вдвоем с цесаревичем. Тот положил ему на плечо руку.
– Никого со вчерашнего дня не видел? Ничего интересного не узнал?
– Ничего, ваше высочество – ведь вы же приказали мне не разузнавать и не делать никакого шага, не побывав у вас.
– Так по этому-то ты и явился так скоро, не терпелось!.. Обещал сообщить тебе интересное и до твоего предмета касающееся – и исполню обещанное, потерпи немного… Это после обеда. Когда голоден, я не люблю рассказывать… Только, сударь, ты не жди тут у меня веселья – один я, жены нету, опять в Петербург уехала.
– А Екатерина Ивановна? – спросил Сергей.
– Екатерина Ивановна! – тихо повторил Павел. – И вдруг его ноздри раздражительно раздулись, в глазах что-то вспыхнуло, но тут же и потухло. – И ее нету… А ты и не знал о том, что уже несколько лет как ее нет в Гатчине?
– Где же она? Надеюсь, она здорова, ваше высочество?
– Здорова… она в Смольном. Довели до того, что отпросилась и уехала. Она навещает нас… не слишком часто… Приедет – так все же становится как-то веселее, как-то тише… Да, во всю жизнь у нас не было лучшего друга… ну и, конечно, нужно было нас лишить этого друга.
– Кто же мог это сделать? Кому это было нужно? И зачем она согласилась уехать? – невольно выговорил Сергей, но тут же и спохватился: – Извините, ради бога, ваше высочество, – сказал он, – я никакого права не имею спрашивать и даже говорить о таких делах, но я так изумлен… так мне странно и так тяжело, что нет с вами Екатерины Ивановны. Я именно рассчитывал видеть ее сегодня. Хотя я и мало знал ее, но она произвела на меня такое впечатление, которое не забывается. Мне она до сих пор представляется исключительной, святой женщиной.
– Такая она и есть, мой друг, – сказал Павел, – и тебе не в чем извиняться. Если ты искренне расположен ко мне, то должен интересоваться моими делами, и я скажу тебе прямо и просто: эта история – старая история. Нелидова была лучшим нашим другом и, надеюсь, навсегда им останется. Пока она жила с нами, мне было хорошо – в ней действительно есть что-то особенное, что на меня действует успокоительным образом. Она всегда была моим врачом, я ей многим… многим обязан. И вот наши дружеские, близкие отношения стали мозолить глаза людям, которые не понимают подобных отношений; ее начали чернить, оклеветали… испробовали все средства, чтобы из-за нее поссорить меня с женой. Это не удалось, потому что жена ценит ее и любит так же, как и я, и потому что она была равно как мне, так и ей полезна и необходима. Мы выносили, пока могли, но клевета выросла до такой степени, что я почувствовал себя невправе держать дольше Нелидову в Гатчине – мне нечем было оградить ее от этих змеиных жал. Нам оставалось одно – расстаться, но, конечно, не вследствие ссоры, доказать, что наши отношения не изменились, что о ссоре тут не может быть и речи. И вот Екатерина Ивановна в Смольном.
– А она часто здесь бывает?
– Не очень часто… Нет, это затруднительно, да и здоровье ее не крепко, устает очень всегда, хоть путешествие и не бог весть какое…
Сергей начинал возмущаться, но в то же время в нем шевелилось уже новое чувство, рождался протест против этого терпения цесаревича – терпения, которое граничило со слабостью. Но, конечно, он не высказал вслух своих мыслей.
Появился Кутайсов и доложил, что обед подан.
Павел взглянул на него, сделал ему опять быстрый знак, тот отвечал подобным же знаком. Улыбка мелькнула на лице Павла.
– Пойдем, Сергей Борисыч. Не думай все же, что я тебя совсем скучать заставлю; может, найдется у нас и дамское общество: одна из фрейлин моей жены заменит за обедом хозяйку, я тебя познакомлю, прекрасная и премилая девушка. Пойдем.
Сердце так и заходило, так и забилось в груди Сергея.
Она или не она? А вдруг все это пустое… Одна только фантазия! Вдруг войдут они в столовую – и там… Какое-нибудь незнакомое лицо, ненужное, неинтересное.
Он не помнил, как они дошли до столовой, у него рябило перед глазами.
Вот накрытый, просто сервированный стол, вот женская фигура, высокая, стройная… Она приподнялась навстречу входившим.
Сергей чуть не вскрикнул – перед ним была Таня, а за нею стояла улыбающаяся, сияющая блаженством крошечная фигурка Моськи.
И Таня была приготовлена к этой встрече, и Сергей почти наверное ожидал ее, но все же сюрприз, устроенный цесаревичем, оказался совершенно удачным, и он стоял, потирая от удовольствия руки и, улыбаясь, глядел попеременно то на Сергея, то на Таню. В лице его не было и в помине мрачного, презрительного и насмешливого выражения, а глаза так и сияли, так и искрились. Никто в эту минуту не назвал бы его некрасивым.
– Ну, сударь, – проговорил он наконец, насладившись смущением молодых людей, представлять ли тебя княжне, или вы уже и так хорошо знакомы?
Таня протянула руку Сергею, и он чувствовал, как рука ее дрогнула, он видел, как яркая краска вспыхнула на щеках ее. Он ничего не мог сказать, хотел говорить, но язык не слушался, он только изумлялся тому совсем позабытому счастью, которое вдруг охватило его.
Где же все это было? И что такое были эти семь лет?
XII. Опять из прошлого
Так вот отчего Сергею пришлось так долго дожидаться в приемной: карлик Моська сказал «свое слово», и был тотчас же проведен к цесаревичу. Моська был совершенно уверен, что слово его отворит ему двери, хотя вот уже семь лет тому назад, перед его отъездом в Лондон, Павел приказал ему, когда бы он ни приехал обратно в Россию со своим господином, явиться тотчас же. Карлик не смутился тем, что прошло с тех пор столько времени, не боялся, что цесаревич, поглощенный своими заботами и хлопотами, позабыл о нем – и он был прав: цесаревич ничего не забывал, и время здесь остановилось. Тут все шло не так, как везде, тут приготовлялась развязка волшебной сказки, о которой столько лет мечтал Моська и которую добрый и странный гатчинский волшебник решился устроить.
Моська молчал о своем посещении Гатчины по крепкому наказу цесаревича, и Сергею не могло прийти в голову, что в течение семи лет между его старым Степанычем и Гатчиною не порывается связь, что карлик знает нечто такое, чего не знает он, Сергей, и что знать так ему всегда хотелось… Приехав тогда в Петербург с княгиней Пересветовой и Таней, карлик сообразил, что прежде всего ему непременно надо побывать в Гатчине, повидаться с цесаревичем и рассказать ему обстоятельно обо всех приключениях «дитяти», поведать ему свое горькое горе и искать у него защиты и покровительства.
«На кого же теперь и надежду иметь, как не на его высочество? Кто его защитит, кто его пожурит, как не он?»
Моська свято хранил в себе родовые горбатовские традиции и даже не стал задумываться относительно возможности дурного приема со стороны цесаревича.
Он явился в Гатчину; его не пропускали, ему прямо объявили, что великий князь его не примет, но он не унывал. Он пустил в ход всю свою хитрость, все свои кошачьи ужимки, не испугался страшных солдат, и гатчинские стражники мало-помалу перешли на его сторону, на сторону забавного, потешного человека. Таким образом, Моська хотя медленно, но все же ближе и ближе подвигался к своей цели. Вот уже он объясняется с офицерами, и офицеры решаются наконец ему способствовать.
– Да как же доложить о тебе?
– Какое такое дело может быть у тебя?
– Коли письмо есть у тебя какое или прошение – передай, оно тотчас же будет доставлено цесаревичу.
– Не могу я этого, – твердо и решительно отвечал карлик, – говорю: сам должен видеть его высочество и говорю вам, государи мои, что его высочество тотчас же меня и примет, как будет ему обо мне доложено. Так и скажите – карлик, мол, от Сергея Борисыча Горбатова, из чужих краев, неужто трудно?.. Чай, ведь язык не отвалится!
– Эх, глупая ты птица! – замечали ему. – Иной раз и легкое дело трудным кажется, – в какую минуту попадешь, нынче его высочество сердитует с утра, его осердили. Разве вот что – пойдем к большому человеку, к господину Кутайсову.
– Давно бы так-то, пойдемте, – радостно запищал Моська.
Теперь он чувствовал, что добился своего и что скоро очутится у желанной цели.
Кутайсов, как услышал, в чем дело, тотчас же и сказал ему:
– Доложить о тебе я доложу и думаю так, что тебя примут, но только ты смотри не наболтай глупостей, держи ухо востро.
Карлик закивал головой – «ладно, мол, не учите – сам знаю».
Кутайсов пошел докладывать.
В этот день Павел Петрович, действительно, был очень не в духе, но умный Кутайсов, зная его характер, рассудил, что, пожалуй, такой нежданный, странный визит произведет хорошее впечатление.
Так оно и вышло.
Цесаревич сидел за своим письменным столом, окруженный книгами, ландкартами, планами. Он чертил что-то, делал какие-то вычисления, был углублен в мечтания относительно того, «что должно быть и чего нету, но что когда-нибудь, пожалуй, и сбудется, коли будет на то милость Божия». За отсутствием действительной живой деятельности, он ушел в деятельность фантастическую: это была бесплодная мучительная работа, наполнявшая многие часы унылых дней его.
Увидев перед собой Кутайсова, Павел оторвался от работы и сердито, крикливо спросил его:
– Еще что?.. Что тебе надо?.. Как смеешь ты являться, когда я занят?..
Кутайсов не смутился, он уже давным-давно привык к характеру своего благодетеля и к его вспышкам.
– Ваше высочество, карлик просит позволения явиться…
– Карлик?
– Да.
– Ты с ума сошел, какой там карлик! Что ты, смеешься, что ли, надо мною?!
Карлик из чужих краев, от господина Горбатова.
Павел встал и прошелся несколько раз по комнате.
– Зови этого карлика, – проговорил он.
Кутайсов увидел, что бури не будет, что наступает затишье.
«Вишь, ведь как он любит этого Горбатова, – подумал он. – Ну, да что же, отчего и не любить хорошего человека?»
Он торопливо ввел Моську в кабинет цесаревича, а сам вышел и запер двери.
Карлик стал быстро раскланиваться со всеми приемами старого царедворца, усвоенными им еще при дворе государыни Елизаветы Петровны, но вдруг почувствовал прилив душевного волнения и, забывая свои приемы, просто, по-русски, пал ниц перед великим князем и заплакал.
Комичная фигурка карлика, смешная манера, с которой вошел он, и потом этот внезапно явившийся порыв произвел на Павла самое лучшее впечатление: недавнего его раздражения как не бывало, напротив того, что часто с ним случалось, он теперь вдруг сделался спокоен и ласков.
– Встань, крошка, – сказал он мягким голосом.
Моська вскочил, поднял на него свое заплаканное, растроганное лицо и шептал дрожащими губами:
– Батюшка ты наш… Красное наше солнышко!.. Привелось моим старым глазам тебя видеть!..
Павел улыбнулся и протянул ему руку. Карлик стал целовать ее, моча своими слезами.
Павел все улыбался не то грустно, не то радостно. Он дорожил такими искренними проявлениями чувства к нему: нечасто приходилось ему их видеть.
– По какому делу? – наконец спросил он.
– А вот, государь батюшка, вот ваше императорское высочество, о Сергее Борисыче доложить нужно вашей милости…
– Так говори, что с ним такое случилось…
Цесаревич сел к столу и приготовился слушать карлика. Тому только этого и было нужно: как маленький, дребезжащий колокольчик, полился поток его речи. Он выложил перед цесаревичем всю свою душу, передал ему все свои страхи и ужасы, рассказал о мерзостях содома, Парижем именуемого, о грехе и погибели «дитяти», о княжне Татьяне Владимировне. Он говорил, как старая нянька, явившаяся перед отцом порученного ей ребенка, который наделал много бед и должен был предстать перед судом родительским. Он и обвинял и оправдывал «дитю», просил пожурить его хорошенько, наказать даже, но затем и помиловать, ибо «дите» неразумное попало в когти дьяволу и больше не своей вольной волей, а наваждением грех взяло на душу и провинилось.
После этой беседы Павел почувствовал, что полюбил этого смешного карлика, будто знал его долгие годы; почувствовал он также, что любит и «дитю». Пуще всего заинтересовался он судьбою княжны Татьяны Пересветовой, образ которой выступил во всей своей чистоте и прелести из довольно беспорядочных, горячих речей карлика.
Он сидел задумавшись, опершись об руку головой, и не замечал, что карлик давно уже молчит с и гладит на него вопросительно, с волнением и трепетом, ожидая от него решения, приговора.
Наконец Моська не вытерпел:
– Как же, ваше императорское высочество? – проговорил он, заглядывая в глаза цесаревичу. Как же теперь быть нам в таких горьких бедах?
Павел очнулся.
– Так вот что, – сказал он, – не полагал я, что за твоим господином такие дела водятся, не ждал я от него этого, думал, он умнее. А коли таков он, так я и знать его не хочу, мне таких не надобно.
Карлик так весь и встрепенулся и замахал ручонками.
– И, что вы, что вы, милостивый государь! Ради Создателя, не гневайтесь! Божескую милость сделайте – простите! Оно точно, неладно все это Сергей Борисыч сделал, да Бог даст исправится, вот как перед Истинным говорю, уж теперь-то он не таков, уже потерпел наказание… ведь жалко на него глядеть было, как прощался с княжною… Осталась бы она – и все было бы ладно, да с ней тоже ничего не поделаешь, тоже вдруг это гордость взялась у нее… уговаривал я ее – нет, и слушать не хочет!.. А чтобы за его вину да ваше императорское высочество от него отступились, нет, это и вам грех будет! – вдруг крикнул карлик вне себя. – Нет, того быть не может! Кабы знали вы, государь, как он любит вас, какой он слуга верный вам был и будет, до скончания дней своих!.. Да нет, это вы так, вы изволили только попугать меня… Не могу тому веры дать, не отступитесь вы от него!
Павел глядел на карлика и опять улыбался.
– Если не веришь, так и бог с тобой, не верь – оно и точно, отступиться от него я не отступлюсь, только Боже тебя сохрани и избави ему заикнуться о нашем разговоре. Я отпишу ему и пошлю письмо с тобой, а покуда слушай: я хочу видеть княжну, хочу познакомиться с нею.
– Вот это самое лучшее! – обрадованно взвизгнул карлик. – Когда же прикажете… что прикажете сказать им?
Цесаревич задумался.
– Это я без тебя решу и устрою, только как они сюда ко мне поедут, и ты будь с ними.
– Слушаю-с, ваше императорское высочество, да наградит вас Бог за доброту вашу. Камень тяжелый сняли вы с меня. Теперь не так уж мне тошно будет возвращаться к басурманам, – знать буду, что сердечное дело наше вы под свое покровительство взять изволили. Теперь уж дурного ничего быть не может!..
– Надеюсь и желаю, – проговорил Павел. – Добра им желаю и буду рад, ежели устрою их соединение. Прощай, любезный, вскоре еще увижусь с тобой, к тому времени и письмо твоему господину приготовлю.
Опять цесаревич милостиво допустил к руке своей карлика и ласково кивнул ему головою, когда тот выходил от него.
XIII. Добрый волшебник
Моська торжествовал и тотчас же, окрыленный новой надеждой, поспешил к Тане. Таинственно и под великим секретом сообщил он ей о своем посещении Гатчины, о разговоре с цесаревичем и объявил, какое приглашение ее ожидает.
Таня все это время была так грустна и задумчива, что жаль было глядеть на нее. Она твердо исполнила то, что считала себя обязанной исполнить, она, несмотря на всю жалость, наполнявшую ее, на всю свою любовь, оторвалась от Сергея, уехала от него; но теперь, когда трудное дело ее было сделано, ей незачем было крепиться – ведь уже никто не уговорит ее вернуться туда, к нему. Она тосковала и грустила по своей едва расцветшей и уже погубленной юности, по честной любви, которая должна была теперь так безвозвратно погибнуть. Она была уверена, что уже ничто и никогда не соединит ее с Сергеем, она думала, что навсегда порваны связывавшие их нити, и в то же время она знала, что радости ее жизни покончены, что никого она не полюбит больше и что никогда не разлюбит она его, хотя он и недостойным оказался любви ее.
Дорогою о многом и многом она передумала, помышляла даже и о монастыре – какая девушка ее лет при подобных обстоятельствах о нем не помышляет!.. – Но мысль уйти от мира недолго ее останавливала на себе. В ней было чересчур много жизни, и, бессознательно для нее, эта жизнь заявляла свои права. Во всяком случае, не теперь еще решать с собою – теперь она еще нужна матери, и не уйдет от нее. А княгиня именно в это время вдруг почувствовала себя снова не совсем здоровой. Поездка, вопреки предсказаниям медиков, вовсе не имела на нее хорошего действия, вовсе не укрепила ее, а напротив, расстроила. При этом она мучилась мыслью о судьбе Тани, она страшно негодовала на Сергея, негодовала отчасти и на Таню, потому что видела, что могло все иначе кончиться, что стоило только Тане немного сдержать себя, позабыть свою гордость, свое оскорбленное чувство, простить ему – и он был бы самым лучшим мужем и старался бы загладить все прежние свои проступки. Влиять на Таню она, конечно, не могла и, сознавая это, не решалась даже уговаривать ее, просить. Она считала своею обязанностью подчиняться во всем решениям дочери, и вот теперь, утомленная и недовольная, она только спрашивала ее:
– Что же мы будем делать? Куда мы отправимся? Здесь жить, что ли, останемся, в Петербурге? Или в Москву? Или в деревню – как ты решила это, Таня?
– Никак не решила, матушка. Отдохни, родная, с врачами еще нужно о тебе посоветоваться – что они скажут. Ты все нездорова.
– Ах, да не думай ты о моем нездоровьи, – перебила ее княгиня. – Вот как увижу тебя счастливой – и сама буду здорова, мое здоровье в твоем счастье.
Тане становилось еще тоскливее.
Но каково бы ни было ее душевное состояние, она не могла равнодушно отнестись к известию, принесенному Моськой. Навсегда расставшись с Сергеем, она все же еще не вышла из-под его влияния относительно некоторых предметов. Она знала про чувство, которое он питал к цесаревичу, и уже по одному этому сама любила его, хотя никогда не видала. Она обрадовалась тому, что он пожелал увидеть их, что он позовет их в Гатчину…
Дня через два княгине доложили, что ее спрашивает неизвестная дама.
– Кто бы это мог быть? Сейчас выйду.
Ее дожидалась маленькая, тоненькая фигурка с какими-то особенными грациозными, воздушными движениями, с нежным, будто созданным из тонкого фарфора, лицом, с глубокими лучистыми глазами. Эта нежданная посетительница далеко не могла назваться красавицей, но вся она сияла такой необычайной духовной красотою, что княгиня с волнением и изумлением на нее взглянула. Оказалось, что это была Екатерина Ивановна Нелидова, фрейлина великой княгини Марии Федоровны.
Княгиня не успела и сообразить – как, что и почему и уже узнала, что завтра утром их ждут в Гатчине. Нелидова, кажется, и не объяснила причины, по которой цесаревич с супругою пожелали их представления, она так ловко и мило обошла эту причину, она только совершенно обворожила княгиню. А когда вошла Таня, то, взглянув друг на друга, они сразу и полюбили друг друга, как будто были старыми, давнишними друзьями – так бывает иногда при встрече двух очень хороших женщин, в особенности, если одна из них обладает такой «гениальностью сердца», какою обладала Нелидова.
На следующий день в назначенное время они были в Гатчинском дворце. Там их встретил самый ласковый прием, какого даже они никогда не могли ожидать. И мать, и дочь были очарованы простотой и добротой красавицы великой княгини. Мария Федоровна, с умением опытной хозяйки, успела занять княгиню, которая, в сущности, конечно, была для нее довольно скучной гостьей. Павел Петрович сосредоточил свое внимание на княжне и с первой же минуты пленился ею.
Несмотря на свою непривычку к обществу, Таня держала себя с таким чувством собственного достоинства, с таким спокойствием и уменьем, что можно было только удивляться, глядя на нее, – откуда все это взялось в семнадцать лет, после деревенской замкнутой жизни?.. Или это душевное горе всему научило? – иногда так бывает.
После обеда Павел шепнул великой княгине:
– Мой друг, был ли я прав или нет? Стоит ли позаботиться о судьбе ее?
– Конечно, да, – отвечала княгиня, – это прелестная девушка, и было бы очень горько, если бы она сделалась несчастной.
– Alors vous me donnez carte blanche?[1]
– Certainement, mon ami[2].
Тогда цесаревич устроил таким образом, что остался вдвоем с Таней. В первую минуту он даже испугал ее – так резко приступил к объяснению с нею.
– Княжна, – сказал он, – я полюбил одного человека, но он оказался недостойным моего внимания, я намерен доказать ему это… Вы понимаете, что я говорю о Сергее Горбатове…
Таня вся вспыхнула…
– Ваше высочество, чем же это?.. Чем он так провинился перед вами? Я хорошо его знаю и… поверьте мне… я ручаюсь вам, что он не мог заслужить такой немилости… он так сердечно вам предан…
– А, и вы тоже! – напуская на себя сердитый вид, воскликнул Павел. – Вот этот глупый карлик тоже толкует о его ко мне привязанности! Хороша привязанность! Чем он ее может доказать мне?.. Единственно тем, что должен быть честным, благородным человеком, а как он поступил с вами?! Я знать его не хочу после этого.
Таня опустила глаза.
«Зачем проговорился Степаныч! Вот ее тайна, тяжелая тайна, прикосновение к которой каждый раз так больно отзывается в ее сердце, теперь в руках цесаревича, – еще, пожалуй, она будет причиной неприятностей для Сергея – зачем это? Как это ужасно! И что теперь делать?»
– Ваше высочество, – проговорила она, стараясь совладать со своим волнением, – вы все знаете… я не умею благодарить вас за участие, которое вы во мне приняли, но дозвольте мне сказать вам, что в моем деле вы не можете быть судьею. Я одна только имею право судить Сергея Борисыча – и я его давно оправдала.
– Vous êtes un ange de bonté, mais tant pis pour lui![3] – с чувством сказал Павел. – Вы победили меня и даете мне хороший урок. Да, вы правы – это ваше дело, и вы в нем судья, но я буду просить вас все же не считать меня совершенно посторонним человеком в вашем деле. Видите ли, я имею глупую слабость к нему, к этому не достойному вас Сергею… а познакомиться с вами и не полюбить вас я тоже не мог, ну и понятно, что мне больно подумать о том, как этот глупый человек нанес вам обиду и сам убежал от своего счастья. Я не могу успокоиться на этом, я должен вернуть вас друг другу, я ставлю это себе задачей. Я до тех пор не успокоюсь… слышите, не успокоюсь, пока вас не повенчаю.
– Ах, как вы добры, ваше высочество, – с навернувшимися слезами прошептала Таня, – но то, что вы говорите, невозможно, никогда этого не будет…
– Будет, не сердите меня, будет непременно, я вам за это ручаюсь, хотя, конечно, не сейчас, не скоро… нет, его проучить надо. Нужно, чтобы он прошел хорошую школу, чтобы он хорошенько, как следует, наконец понял всю гнусность вины своей перед вами, чтобы он переродился и перерожденным, истинно раскаявшимся грешником явился перед вами, да и тогда еще вы его испытаете, и тогда еще не сразу покажете ему возможность счастья, пусть он его заслужит хорошенько. Когда он вернется сюда – я не знаю, может быть, пройдет год, другой, третий, все возможно, но знаете, какое-то предчувствие говорит мне, что он вернется именно таким, каким я желаю его видеть. Он не может забыть вас, он не может найти кого-нибудь другого на ваше место – таких, как вы, не забывают. Пусть он помучается хорошенько, а все же к вам вернется. Пока же у меня до вас большая просьба: мы с женой сразу, с первой минуты полюбили вас как родную, как будто бы вы были нашей дочерью; видите, я говорю прямо и просто – я не умею иначе, когда мне сердце подсказывает слова – оставайтесь у нас, не покидайте нас и ждите здесь с нами вместе возвращения вашего Сергея. На этих днях вы будете, вероятно, назначены фрейлиной великой княгини – согласны?
Таня поднялась растерянная, растроганная, она не могла сдерживать благодарных слез и невольным движением протянула руки к великому князю.
– Как вы добры, – шептала она сквозь слезы. – Сергей много говорил мне о доброте вашей, но то, что я вижу и слышу…
Она не могла договорить. Павел крепко сжал ее руки.
– Успокойтесь, дитя мое! – сказал он ласково, нежным голосом.
Когда Таня несколько успокоилась, первая мысль, пришедшая ей в голову, была о том, что все же ей невозможно воспользоваться добротой и милостями цесаревича и его супруги – а как же мать? Она не имеет никакого права ее покинуть, да если бы и имела, она по чувству своему никогда не решится на это. Она прямо и выразила все это цесаревичу.
– А вы полагаете, что об этом не подумали и не поняли, – ответил он, – конечно, и княгиня должна тоже здесь остаться и не разлучаться с вами, и вот, может быть, теперь, в эту минуту, жена и говорит ей об этом.
Возражений никаких не оставалось: дальнейшая судьба Пересветовых была решена – они оказались жительницами Гатчины. Карлик был отправлен со всякими инструкциями, с письмом от цесаревича к Сергею и со строжайшим наказом, чуть что не под страхом смерти, молчать обо всем, чему он был свидетелем. Он должен был извещать княжну время от времени о себе и о своем господине, ему обещано было, что и его не оставят без вестей – но Сергей должен был оставаться в полном неведении относительно того, что Таня находится в Гатчине.
Добрый волшебник взялся все устроить к всеобщему благополучию и употребил все способы для того, чтобы все совершилось именно так, как он задумал. Когда должна была наступить развязка, через год, через два, через три? – Это был самый дальний срок, какой только мог представляться действующим лицам, а между тем время шло, не принося ничего нового; прошло целых семь лет. Вот уже три года как умерла княгиня Пересветова, вот уже три года как Таня совсем одинока, но не чувствует себя сиротою в семье цесаревича – к ней все так привыкли, ее все так любят. Время от времени Павел Петрович напоминает ей об обещанной развязке. Великая княгиня, напротив, давно же предлагает ей разных женихов, давно уже заботится о том, чтобы устроить судьбу ее – княжна Таня богатая, знатная невеста, – но усилия великой княгини не приводят ни к чему: в Гатчине мало женихов, но главное дело и не в женихах – Таня никого знать не хочет, она верна далекому человеку, не имеющему о ней благодаря распоряжению цесаревича никаких известий, но о котором сама она, через старого друга Моську, знает все, что ей знать нужно. Таня ждет, и каждый раз, когда добрый волшебник напоминает ей, что цель непременно будет достигнута, что счастливая развязка наступит, она снова ободряется и снова верит доброму волшебнику. И ни она, ни этот добрый волшебник не замечают, что время идет, хотя медленно, однообразно, но идет своей чередой, унося год за годом, унося жизнь и молодость. Не замечают они этого – ведь время остановилось в Гатчине…