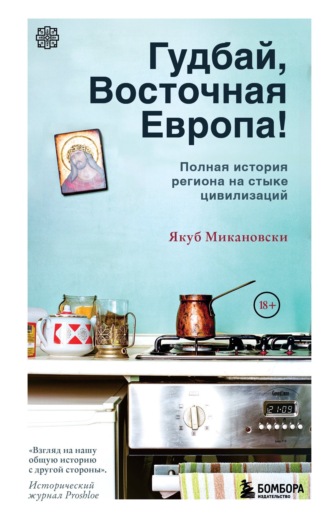
Якуб Микановски
Гудбай, Восточная Европа!
Слово Shtetl на идише означает «город»; оно происходит от более распространенного немецкого слова Stadt. Теоретически любое скопление домов, превышающее деревню, может называться Shtetl, хотя в уважающем себя городке, претендующим на это название, должна быть, по крайней мере, рыночная площадь. На практике у таких городков имелись свои особенности. Во-первых, большинство населения составляли евреи. Это делало Shtetl непохожими практически ни на одно другое место в Диаспоре. Если в большинстве стран мира евреи были подобны пассажирам лодки, которую терзают враждебные моря, то в Shtetl – каким бы бедным оно ни было – они твердо стояли на земле. Они представляли собой некие островки еврейства, окруженными архипелагами.
Тысячи Shtetl когда-то были рассеяны по Польше, Литве, Беларуси и Украине, а также в соседних землях: Словакии, Венгрии и Румынии. Такое преобладание и плотность еврейского расселения позволяют называть Восточную Европу уникальной. Нигде в мире больше еврейская жизнь не была столь изобильна, разнообразна или так тесно переплетена с окружающей средой. На протяжении веков Shtetl и их образ жизни процветали повсюду. А потом внезапно все исчезло навсегда.
Мой дед Чеслав Берман вырос в одном из таких исчезнувших местечек, в Shtetl под названием Замбрув, который располагался на главном пути из Варшавы в Белосток. Перед Второй мировой войной здесь проживали около семи тысяч человек, половина из которых были евреями. Выжила лишь горстка. Этого мира больше не существует. Местечко было настолько тщательно уничтожено, что, когда я рос в Польше 1950-х годов, даже мои родители едва ли догадывались о его существовании. Я даже не знал настоящего имени своего деда. Позже я узнал, что его звали Бецалель, в честь мастера, который изготовил Ковчег Завета.
Бецалель-Чеслав прожил насыщенную событиями жизнь. Он посидел в советских лагерях для военнопленных и видел, как Берлин горел под минометными обстрелами, некоторыми из которых он лично руководил. И все же к концу своей жизни он снова и снова возвращался в памяти в мир своего раннего детства. В его воспоминаниях ему помогала Книга Памяти Замбрува, написанная на идише, опубликованная в Израиле в 1963 году и привезенная оттуда бог знает каким образом. Я помню, как он просматривал ее в поисках имен умерших родственников и историй, относящихся ко временам его прадедов, к середине XIX века. Эти события произошли достаточно недавно, чтобы он мог услышать о них из первых уст, и в то же время достаточно давно, чтобы казалось, будто они произошли в Древнем Вавилоне.
Перед моим мысленным взором стоит огромный том Memorbuch, напечатанный еврейскими буквами с позолоченным тиснением на корешке. Мне больно думать, как мало я понял из того, что описывалось в этой сокровищнице. На страницах, взятых из воспоминаний людей, эмигрировавших из Замбрува в 1930-х годах, приведены прозвища реальных персонажей, которые бродили по его улицам перед Первой мировой войной: калека Мишел, Немой Байрах и Утка Качхе; Сумасшедший Зандл, который всегда был погружен в свои мысли; Одноглазый Шаббат, у которого на самом деле был только один глаз; и Чашке, женщина-плотница, которая всегда знала, как лучше всего отвести дурной глаз.
У местечек Shtetls тоже были прозвища. В окрестностях Замбрува жили ткачи gartl из Чижева, хулиганы из Острова, «яблонские козлы» и игроки на тарелках из Ставки. Люди из самого Замбрува проходили под прозвищем «гангстеры». До провозглашения Польшей независимости в 1918 году город находился в России, недалеко от границы с Германией, и имел репутацию центра контрабанды лошадей. Таким же бизнесом занимались практически все остальные пограничные города Российской империи. Все города в черте оседлости славились либо своими раввинами, либо своими ворами – были и те, которые были знамениты и тем и другим, например Двинск в Латвии.
Спустя много лет после того, как я впервые увидел памятную книгу деда, я сам побывал в Замбруве. От описанного прошлого там мало что осталось. Старые улицы исчезли. Едва ли не единственное, что сохранилось в городе от довоенных времен, – это старые кирпичные казармы, построенные последним царем, и еврейское кладбище, заросшее крапивой и лишенное практически всех надгробий. Растерявшись, я сделал то, что обычно делаю в пропащих местечках: направился к ближайшему ручью.
Если вам когда-нибудь придется искать еврейский квартал в восточноевропейском городе, отправляйтесь на центральную площадь, затем идите вниз по склону, пока не промочите ноги.
Вода всегда была священна в жизни восточноевропейских евреев. Чтобы молиться, нужно быть чистым, а чтобы быть чистым, требовался доступ к ритуальной бане или к месту для погружения, mikva. Для поддержания чистоты требовалось наличие пруда или небольшого ручья, и синагоги, как правило, располагались рядом с небольшими водоемами.
Для искупления также требовалась вода. Каждый Рош ха-Шана – еврейский Новый год (его празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю; приходится на сентябрь или октябрь) – евреям предписывается смыть грехи предыдущих лет. Это нужно было сделать над озером или ручьем; евреи должны были опустошить свои карманы и произнести специальную молитву. В Двинске десять тысяч человек каждый год собирались на берегах могучей реки Двины, чтобы избавиться от своих прегрешений. Умная рыба могла разжиреть, поедая остатки этих грехов. Жители Замбрува делали то же самое. Сегодня все городские синагоги исчезли. Главную площадь, на которой когда-то стоял дом моего прадеда, разделило пополам шоссе, и в нынешнем виде ее едва можно узнать. Но ниже ее по-прежнему течет городской ручей Яблонка. Вода осталась, и она свидетельствует о прошлом.
…
В Shtetls евреи занимались всеми мыслимыми профессиями, от парикмахерства до игры на фаготе. За пределами городов евреи в Польше и Литве обычно работали странствующими разносчиками товаров или, чаще всего, содержали сельские гостиницы и таверны. До конца XIX века евреям в Польше и Литве по закону было запрещено владеть большими участками земли, что фактически лишало их возможности заниматься сельским хозяйством. Вместо этого они были вынуждены взять на себя роль коммерческих посредников, связывающих мир крестьянства и крупных дворянских поместий с более широкими потоками торговли и обмена. Они управляли недвижимостью, поставляли зерно на рынок или перемалывали его в муку. Прежде всего они контролировали самое ценное достояние аристократов: монополию на производство алкоголя. Каждая монополия фактически представляла собой лицензию, которая позволяла определенным землевладельцам, и никому другому, перегонять излишки пшеницы и ржи в крепкую – и легко транспортируемую – водку. Затем землевладельцы могли продавать водку своим же крестьянам в тавернах, которыми они владели и на которые у них также была монополия.
До конца XIX века большинством таверн в Польше и Литве управляли евреи. Будучи чужаками, они становились обязаны знатным хозяевам, и на них можно было положиться, что они не будут слишком помногу отпускать в кредит своим соседям-неевреям. Таким образом, еврейские таверны стали неотъемлемой частью деревенской жизни – они сочетали в себе гостиницу, свадебный зал и фирменный магазин. Известная грязью, низкими потолками и земляными полами, пропахшая трубочным дымом, уксусом и потом, таверна была единственным местом, куда крестьяне могли пойти, чтобы отвлечься, отпраздновать свадьбу или послушать песню. В тавернах можно было хорошо, по-настоящему напиться, а также только там можно было купить предметы первой необходимости, сахар или гвозди – еще один способ увеличения прибыли землевладельцев. В таверне получше могли подать на закуску борщ, квас и вареники; в таверне поменьше – ничего, кроме маринованной сельди. Сочетание водки и сельди, любимое всеми истинными ценителями выпить, берет свое начало именно здесь.
Жизнь в Shtetl никогда не отличалась от жизни в сельской местности, окружающей городки. Она тоже подчинялась ритмам времен года. Для многих евреев «зеленый календарь» шел в ногу с религиозным. Го д начинался весной, когда аисты возвращались из Африки, когда набожные евреи благословляли деревья, которые именно в это время начинали цвести. Когда лето сменялось осенью, приходило время сбора урожая пшеницы. Евреи выращивали особую пшеницу для пасхальной мацы. Многие покупали небольшие участки земли у фермеров-неевреев, чтобы обрабатывать ее самостоятельно. (Семья моего деда была в этом плане уникальной – они выращивали собственную пшеницу и раздавали ее бесплатно.) Вскоре после сбора урожая начинали появляться ягоды ежевики, называемые «маленькими яблочками Диаспоры». Их сок был достаточно темным для написания свитков Торы, за что они и получили свое название: они напоминали о тьме изгнания. Затем появлялись яблоки: сладкие, которые едят на Рош ха-Шана, кислые, под названием «яблоки Содома», и дикие, так называемые кладбищенские яблоки. Миниатюрные груши Кол Нидре, которые росли в лесу дичкой, созревали как раз к Йом Кипуру. После этого наступало время заготовлять квашеную капусту на зиму – нужно было успеть до первых сильных заморозков.
Евреи и христиане могли выпивать вместе на нейтральной территории, в той же таверне, но, когда приходило время идти в церковь или на капище, приятельские прежде отношения сменялись смесью подозрительности и презрения. В глазах христиан евреи всегда были врагами Христа. Их присутствие в реальной жизни могло считаться нормой, но их религия, странный язык и непонятные обряды хранили в себе угрожающую и болезненную тайну. Евреи, в свою очередь, жили в постоянном страхе перед судебными процессами – их постоянно обвиняли во всех тяжких, клеветали на них, и все это сопровождалось беспорядками. Поверье о том, что евреям нужна кровь для приготовления пасхального хлеба, уходило корнями глубоко в Средневековье. Паника, вызванная подозрением евреев в похищении или убийстве, стоила многих невинных жизней.
Разделение между двумя религиями закреплялось обычаями и законом. До XIX века, если христианин переходил в иудаизм, наказанием была смерть. Если еврей переходил в христианство, он или она считались для своей семьи умершими. Если евреи затем одумались и вернулись в иудаизм, наказанием им также была смерть.
Несмотря на риски, граница между двумя общинами постоянно нарушалась. Евреи часто работали на христианских работодателей; те, в свою очередь, также нанимали служанок-христианок. Иногда деловые контакты даже перерастали в любовь. Публичные случаи нееврейско-еврейских романов редки, отчасти потому, что их обычно приходилось держать в секрете. Большая часть того, что мы знаем о таких взаимоотношениях в досовременную эпоху, касается случаев, когда что-то пошло не так.
Один такой случай произошел в октябре 1748 года в городе Могилеве в Беларуси. Еврей по имени Авраам был обвинен перед судом в совершении незаконного союза с украинской христианкой по имени Параска. Обоих допросили, пара дала показания о том, как они оказались вместе.
Первоначально Авраам был женат на еврейке по имени Исида, но он бросил ее вскоре после свадьбы, потому что она показалась ему сумасшедшей. Сбежав в соседний город, он устроился на работу к землевладельцу-христианину, у которого в услужении также работала Параска. Авраам и Параска стали близки, потом женщина забеременела. Они вместе покинули город, чтобы поискать новое жилье. По дороге – прямо посреди поля – Параска родила девочку; час спустя младенец умер. Они похоронили ее на том же поле и пошли дальше.
Когда они прибыли в следующий город, Авраам велел Параске молчать и притворяться, что она немая – у него был план. Он нашел работу у еврейского пивовара по имени Хершко – ему он объяснил, что Параска его жена и еврейка. Она родилась немой, что объясняло, почему она не говорила на идише и не знала ни слова на иврите. Жена Хершко взяла шефство над Параской, водила ее в синагогу, учила молитвам и коротко стригла ей волосы, как подобало носить их жене-еврейке. По словам Авраама, он никогда не давил на Параску, чтобы та приняла иудаизм. Он оставил решение о том, переходить ли в другую веру, на ее усмотрение. Самым важным было то, что они оба пообещали «не бросать друг друга», хотя официально не состояли в браке.
Такова была версия событий Авраама. Рассказ Параски совпадал с его рассказом во многих деталях, за исключением одной, которая оказалась фатальной. Она призналась, что их дочь родилась не мертвой, а живой. Они просто оставили ее в поле. В то время оставлять новорожденного умирать было обычной практикой по всей Европе. Предусмотренным наказанием за это была порка. Однако на этот раз судья приказал казнить Параску, а Авраама сжечь на костре. В последний момент он принял христианство, чтобы избежать мучений. 23 декабря 1748 года ему и Параске отрубили головы на Виленской дороге.
По всей Восточной Европе евреи и христиане жили бок о бок и вместе с тем порознь, разделенные барьерами обычаев, религии и закона. Тем не менее обе группы разделяли всепроникающую веру в сверхъестественное и в способность правильно применяемой магии влиять на здоровье, безопасность и богатство. Евреи и христиане часто полагались на народные средства друг друга. В Познани, когда демоны завладели заброшенным домом, еврейская община обратилась за помощью к местным иезуитам. В хасидских сказаниях часто упоминаются еврейские женщины, обращающиеся к целителям-язычникам за помощью при родах и других недугах. Сам Баал Шем Тов признавался в своих сохранившихся письмах, что искал исцеления у проезжавших мимо цыган. Говорили, что даже Виленский Гаон научился применять лечебные травяные лекарства у литовских христианок. Христиане, в свою очередь, тоже нередко ходили к раввинам и другим еврейским целителям. Они пили из источников, освященных Баал Шем Товом, и обращались к раввинам-чудотворцам за помощью при бесплодии и за советом о будущем.
Будучи типичными аутсайдерами в христианских общинах, евреи либо вызывали проклятия на свою голову, либо обеспечивали коммуне духовную защиту. Евреи сталкивались со многими теми же опасностями, что и их соседи-христиане, но в замкнутом мире городка им чаще всего приходилось справляться с ними самостоятельно. Странствующие экзорцисты излечивали братьев от одержимости духами умерших, известными как dybbuks. Они донимали и уговаривали непокорного призрака покинуть тело одержимого. Например, у такого знаменитого экзорциста, каким был великий раввин Шмуэль из Каминки, этот способ обязательно срабатывал; в противном случае никаких гарантий не было. В памятном случае из Варшавы в 1818 году, о котором сообщали многие очевидцы, дух-нарушитель наотрез отказался оставить тело ребенка, заявив, что если он это сделает, то «никогда не освободится» от своих мучений.
Экзорцисты работали с мертвыми один на один. Однако, когда всему сообществу угрожала опасность, будь то война или, что хуже всего, чума, требовались более экстремальные меры. В такие критические моменты души мертвых приходилось призывать всей группой. На Черной Свадьбе, или Шварце Хасене, два представителя общины заключали брак, чтобы предотвратить крупное бедствие. Жених и невеста, как правило, были представителями беднейших в городе семей. Часто один из них или оба были калеками, немыми или каким-либо другим образом «непригодными для брака». Члены общины объединялись, чтобы собрать приданое и обеспечить их необходимой одеждой и скарбом для дальнейшей совместной жизни. Свадебная церемония проводилась на кладбище. На ней присутствовали тысячи людей. Белой тканью завешивали границы кладбищенской ограды, обозначая таким образом границу между общиной и внешним миром.
У Черной Свадьбы было две цели. Одной из них было примирение: празднование на кладбище служило подарком мертвым, на которых можно было тогда положиться в оказании помощи живым. Другой целью был этикет: свадебная процессия традиционно имела приоритет перед похоронным кортежем, поэтому, пока она продолжалась, это могло остановить поток жертв чумы, ожидающих погребения. На языке этнографического отчета все это кажется невероятно древним. «Черная Свадьба» звучит просто невероятно, но такие мероприятия действительно проводились – даже на родине моего деда в Замбруве.
Мать моего деда Дина вышла замуж за изготовителя подтяжек, который увез ее в Варшаву после Первой мировой войны. Отец Дины Янкл, член большого клана еврейских фермеров по фамилии Голомбек, торговал зерном и изделиями из дерева. В «Мемориальной Книге Замбрува» Янкла характеризовали как «одного из самых утонченных и идеалистичных домовладельцев в городе», «исполненного любви к природе и очень прямолинейного человека». Всю неделю в его доме толклись люди: многие его сотрудники приходили в любое время, чтобы выпить кофе с молоком, поесть печенье и обсудить дела. Двумя самыми частыми гостями были брат Янкла Меир и его жена Рейзл.
В «Мемориальной Книге» Меир описывает инцидент, произошедший в 1893 году, когда эпидемия холеры охватила Россию и Польшу. Вспышка заболевания в Замбруве была ужасной, она принесла десятки погибших. Чтобы попытаться остановить заразу, люди перепробовали все, что только могли придумать. Они прекратили работу и читали псалмы, организовали бесплатные массажи и даже сняли плотину с городского ручья в надежде, что его беспрепятственный поток вымоет болезнь из города. Чуда не произошло. Затем они предприняли более решительные меры: собрали все выброшенные и поврежденные остатки молитвенников и устроили по ним похороны ночью на городском кладбище, с горящими свечами и церковным служкой, произносящим кадиш. Те м не менее болезнь продолжила бушевать. Отчаявшись, город разыграл свою последнюю карту: устроил Черную Свадьбу.
В качестве невесты они выбрали нищую девушку-калеку по имени Хана-Йента, а в качестве жениха – старого холостяка Велвела, тоже калеку – он зарабатывал на жизнь попрошайничеством, ковыляя от двери к двери. За свой счет община одела их в самую лучшую одежду и арендовала для них полностью меблированный дом. Самая уважаемая из городских домохозяек взяла на себя организацию свадебной церемонии. Они напекли булочки, приготовили мясо и рыбу и установили свадебный балдахин – разумеется, на кладбище. В день свадьбы оживленная толпа провожала жениха и невесту в их новый дом, hupha.
На обратном пути с кладбища они танцевали и, несмотря на тень эпидемии, «радовались за жениха и невесту, как и положено». Умоленный умиротворенными мертвецами, Бог смилостивился, и холера прекратилась. С тех пор Хана-Йента, невеста Черной Свадьбы, получила статус «Невестка города».
Ее назначили муниципальным водоносом, а ее мужу выдали официальную лицензию нищего.
С этого момента Хана-Йента стала в Замбруве важной персоной. Она считалась одной из самых набожных евреек в городе, и о ней всегда говорили с уважением, поскольку как писал Меир, «многие верили, что она внесла существенный вклад в сдерживание эпидемии». Со своей стороны, Хана согласилась. Она, как никто другой, знала, что спасла город от беды. Когда она ходила от дома к дому с тяжелыми ведрами с водой, у нее была причина собой гордиться: она оказала услугу мертвым, и теперь все живые были у нее в долгу.
3
Мусульмане

На протяжении большей части своей истории Восточная Европа находилась на окраине Европы. В раннем Средневековье причина была проста: Европа стала миром христианским, а их вотчина заканчивалась там, где все еще властвовал последний языческий правитель. Когда язычников смыло волной христианства, Восточная Европа стала границей в более специфическом христианском смысле: местом, где католическая церковь встретилась со своим православным аналогом, границей между Римом и Константинополем, между латынью и греческим, между готическими шпилями и деревянными куполами.
В этой точке царило напряжение, но непреодолимой пропасти не было. Начиная с XIV века, с первыми вторжениями турок-османов на Балканский полуостров, Восточная Европа стала домом для самой важной религиозной линии разлома на континенте – разделения между христианами и мусульманами. Исламское присутствие расширилось и оказало существенное влияние на представления многих восточноевропейцев о самих себе. Многие христианские правители сознательно брали на себя роль защитников веры и представляли себя последним бастионом, сдерживающим натиск мусульман. Этот миф о Древнем христианстве, «оплоте христианского мира», был подхвачен Польшей, Албанией, Сербией, Хорватией, Венгрией и почти всеми остальными странами, которые в какой-то момент оказались вовлеченными в битву с противником-мусульманином.
У веры в «последний бастион» была физическая реальность в виде замков, стен, пограничных столбов и сторожевых башен. Баал Шем Тов, основатель хасидизма, родился около 1700 года на территории современной Украины, в г. Okopy Świętej Trójcy, в переводе «Крепостные валы Святой Троицы», и в то время город буквально представлял собой крепость, прямо на границе Польши-Литвы и Турции. Для Восточной Европы характерно, что детство этого еврейского мистика проходило в польско-католической цитадели, среди православных украинцев, на фоне турецких минаретов.
Но, несмотря на протесты историков-националистов, Восточная Европа на самом деле никогда не была просто крепостным валом: она скорее служила воротами. Да, мусульмане и христиане сражались на ее территории, но они также встречались, смешивались и влияли друг на друга. Аль-Андалус, исламская Испания, пользуется репутацией европейской области, где мусульмане и христиане жили вместе и учились друг у друга. Когда же последнее мусульманское королевство в Испании пало под армиями Фердинанда и Изабеллы в 1492 году, Восточная Европа оставалась частью исламского мира. Именно здесь было сосредоточено самое большое и древнее скопление мусульман на континенте.
Сегодня большинство населения Боснии и Албании (как и Косово) составляют мусульмане, в то время как Болгарию, Черногорию и Северную Македонию считают своим домом значительные мусульманские меньшинства. Следы многовекового присутствия мусульман обнаруживаются в Польше, Румынии, Литве и Беларуси. Таким образом, Восточная Европа – это не столько окраина Европы, сколько исламская периферия, одна из многих окраин мусульманского пояса, который простирается от Западной Африки до Юго-Восточной Азии. Чтобы увидеть это явление, требуется радикальное изменение угла зрения. Нам нужно перестать смотреть на юг из Будапешта и на восток из Вены и начать смотреть на запад из Стамбула и на север из Каира.
Письменные свидетельства, которые оставили после себя мусульмане, являются одними из самых достоверных источников информации о том, какими были поляки, чехи и мадьяры до того, как их правители приняли христианство.
В те времена Багдад, столица халифата Аббасидов, являлся центром торговой сети, которая простиралась от Марокко до Китая и чьи щупальца достигали Сибири и Скандинавии. Мусульманские географы разделили мир на семь горизонтальных полос, или «климатов». Северные земли принадлежали седьмому и самому холодному «климату» – региону ужасающей грязи и варварства. С точки зрения исламских ученых, живущих в утонченных городах-садах Персии и Месопотамии, славяне, населявшие холодные пустоши, находились лишь на ступень выше диких зверей.
Их мнение о восточных соседях славян, турках, было ненамного лучше. Большинство из них тогда все еще были язычниками. Однако всего через несколько столетий эти центральноазиатские кочевники не только приняли ислам, но и возглавили исламский центр на Ближнем Востоке. Не останавливаясь на достигнутом, они в последующие годы довели мусульманский суверенитет до самых широких пределов, которых он когда-либо достигал в Европе, вплоть до Адриатического моря и ворот Вены.
Ислам пришел в Европу ради торговли, но остался из-за завоеваний. Этот процесс начался с прибытия первых турецких солдат на Балканы в 1345 году и продолжался до завоевания османами Подолья в 1672 году. В течение этих трех столетий Османская империя превратилась в самую грозную военную машину в континентальной Европе, подчинив своему влиянию весь Балканский полуостров, а также части Украины, Румынии и большую часть Венгрии.
Это экстраординарное завоевание превратило обширную и разнообразную территорию Восточной Европы в вооруженную пограничную зону. Между владениями ислама и христианства никогда не было железного занавеса. Вместо жесткой границы существовала зона ограниченного суверенитета, которая вскоре заполнилась всевозможными пограничниками и наемниками. На стороне ислама сражались за свою веру и своего султана профессиональные военные ghazi – они надеялись получить щедрые земельные пожалования. Кроме того, там хозяйничали группы свободных скотоводов, например кипчакские и ногайские татары, которые жили верхом, сражались не только за ислам, но и за самих себя, совершая разрушительные набеги вглубь Украины и Румынии в поисках пленников и добычи.
На христианской стороне ошивались пограничные бойцы самых разных мастей: пираты хорватского побережья uskok, войска габсбургской военной границы и венгерской армии – pandur и grenzer. Все эти группы использовали нестабильность границы в своих интересах, оправдывая набеги, грабежи и работорговлю своей верой. Однако ни у кого из них не было более устойчивой репутации дикарей, чем у казаков украинских степей – эти яростнее всех защищали свою независимость от всех посягавших.
Происхождение казаков загадочно. Похоже, они начали свою жизнь как беглецы. На бесплодных землях южной Украины крепостные из России и Польши-Литвы могли начать новую жизнь свободных людей. Ценой стала постоянная бдительность: без защиты государства они должны были стать законом сами для себя. Постепенно они переняли обычаи соседних тюркских племен и превратились в сообщество независимых конных воинов, собранные в воинские формирования без жесткой организации. Казаки совершали впечатляющие набеги на своих соседей в России, Польше-Литве и османских владениях. Сегодня о них помнят в основном как о постоянной проблеме: сначала как о жестоких повстанцах против Польши и Литвы, которые предавали огню еврейские города, а позже как о далеко простирающейся руке Российской империи. Однако в собственном сознании казаки были защитниками веры. Они сражались от имени православного христианства как против католиков, так и против мусульман. Ни одна история лучше не отражает их самооценку, чем «Песня о Байде».
В жизни казак Дмитрий Вишневецкий, типичный приграничный хозяин, был хитрым, безжалостным человеком, всегда готовым продать свою верность тому, кто больше заплатит. Для короля Польши он укрепил остров на Днепре, облегчив полякам противостояние татарам. Для Ивана Грозного он собрал армию на Кавказе и использовал ее для набегов ради наживы вверх и вниз по Дону. По его собственному признанию, он повел своих казаков в Крым для захвата рабов. Когда ни Московия, ни Литва не захотели потакать его жажде смертоубийства, он связал свою судьбу с молдавским деспотом в поисках дальнейших возможностей для грабежей.
После смерти Вишневецкий превратился в Байду, легендарный образец казацкой мужественности, героя сотни эпических казачьих песен, или «дум». В одном из самых известных произведений, «На маленькой площади в Царь-граде», он появляется, довольно неожиданно и в полном одиночестве – в центре Стамбула. Пьяный, он отправляется на многодневную гулянку. Турецкий султан, ослепленный этим проявлением мужественной бравады, предлагает Байде руку своей дочери. Но Байда отказывается со словами: «Твоя дочь прекрасна, но твоя вера проклята». Разъяренный султан приказывает схватить Байду и вздернуть. Подвешенный на крюке, воткнутом под нижнее ребро, Байда терпит ужасные мучения в течение трех дней. Те м не менее даже в этом смертельно-затруднительном положении ему каким-то образом удается схватить лук и выпустить стрелу за стрелой в султана и его забракованную дочь, почти попав в обоих, прежде чем наконец вкусить сладкое освобождение смерти. И вот, непримиримый и многословный, он переходит в царство мифа.
Ветвь моей собственной семьи была сформирована этим режимом почти мифического насилия на приграничных территориях. Моя бабушка по материнской линии родилась на Украине и выросла в Вильнюсе. Но ее фамилия, Теребеши, была венгерской. Ее семья, принадлежавшая дворянской ветви, вероятно, приехала в Польшу в конце XVI века в свите трансильванского принца, который был избран на польско-литовский престол. До этого они были пограничными воинами. На фамильном гербе красовалась отрубленная голова, насаженная на меч, который держала закованная в броню рука. Голова мертвеца также была изображена на фамильном кольце с печаткой, которое принадлежало сестре моей бабушки.
В детстве я никогда не видел это кольцо, но оно ярко сверкало в моем воображении как единственная связь с аристократическим прошлым. Такие детали – важный ключ к пониманию того, откуда происходила эта семья. В официальной геральдике голова покойника изображалась с челкой и свисающими усами – верный намек на турецкое происхождение врага. Прежде чем стать аристократами, Теребеши, скорее всего, были простыми солдатами, которых возвели в сан за какой-то давно забытый акт доблести – например, за то, что они отрубили голову врагу. Именно это произошло и с Джоном Смитом, который позже прославился как Покахонтас. До прибытия в Новый Свет он работал наемником у трансильванского принца. В 1602 году во время осады он в схватке отрубил головы трем турецким солдатам. В награду принц пожаловал ему герб с тремя головами, нарисованными треугольником на щите.
Снятие с врагов голов было обычным делом на приграничных территориях, скажем больше – серьезным бизнесом. Случались и забавные истории. В 1662 году Эвлия Челеби, османский придворный, ученый, бонвиван и один из величайших писателей-путешественников всех времен, присоединился к султанской армии на время ее похода в Венгрию и принял участие в одном из сражений против христиан. День прошел в хаосе и кровавом месиве, но к вечеру солдаты султана, казалось, одержали победу. Почувствовав зов природы, Эвлия воспользовался возможностью облегчиться на поле боя. Как раз когда он закончил опорожнять кишки, из зарослей над ним выскочил воин из неверных и повалил его на землю. Вымазанный в собственном дерьме, со штанами на лодыжках, Эвлия был уверен, что немедленно станет «мучеником во дерьме».


