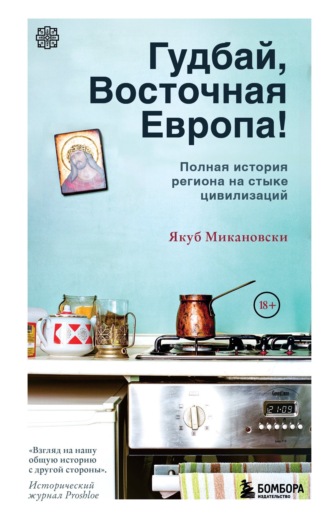
Якуб Микановски
Гудбай, Восточная Европа!
Вовремя спохватившись, Эвлия успел вонзить нож в грудь вражеского солдата. Теперь покрытый и говном, и кровью, он мог только смеяться, представляя свой «дерьмовый» образ великого пограничного воина. Затем он стащил с христианина кошелек и отрубил ему голову, которую отнес своему командиру Исмаил-паше.
«„Пусть несчастные головы врагов всегда катятся так, как эта“, – сказал я, поцеловал ему руку и встал в строй. Те, кто стоял рядом со мной, отошли из-за запаха.
„Мой верный Эвлия, – сказал Исмаил-паша, – странно, что от тебя пахнет дерьмом“.
„Не спрашивайте, о повелитель, о том, какие беды постигли меня!“ И я поведал о своих приключениях одно за другим.
Все офицеры на нашем празднике победы громко смеялись.
Исмаил-паша тоже был несказанно рад. Он наградил меня пятьюдесятью золотыми и серебряным тюрбаном-гребнем, и я заметно приободрился».
На мусульманско-христианской границе дикое насилие могло привести к неожиданной комедии, равно как и взаимная ненависть могла мгновенно преобразиться в братскую любовь. Все зависело от того, какая эмоция была более выгодной и благоразумной в тот или иной момент.
В XVI веке свирепые пираты христианского происхождения uskoks заняли нишу на Адриатическом море. Они базировались в порту Сень, на территории современной Хорватии, и представляли себя святыми воинами, при этом с таким же удовольствием охотились как на венецианские корабли, так и на османские. Но иногда даже пиратам приходилось заключать сделки. В 1580-х годах османское правительство, надеясь уменьшить количество набегов на свои земли, запретило практику предложения выкупа за пленников, удерживаемых пиратами. На местном уровне этот запрет не отвечал ничьим интересам, поскольку подвергал опасности солдат османской границы и лишал uskoks важнейшего источника дохода. Поэтому главарь пиратов и местный турецкий управитель bey сели за стол переговоров. Они установили соответствующие уровни оплаты за каждый вид пленников и скрепили сделку клятвой быть кровными братьями друг друга, что сопроводилось употреблением большого количества алкоголя. После этого они все вместе отправились спать «на одной кровати, в объятиях друг друга».
В другом случае uskoks заключили договор с aga, местным турецким правителем. Христианские пираты обещали прекратить набеги на провинцию правителя, если он, в свою очередь, обеспечит им безопасный проход через свои земли. Они понимали, что османские солдаты не могут позволить им пройти через свои земли невредимыми, – это означало бы позор. Поэтому они согласились, чтобы турки выстрелили в их сторону один или два раза ради своей же чести.
Стрелять – но не слишком много и не слишком метко – благородное решение проблемы неудобных привязанностей. Для христиан по обе стороны границы uskoks были героями, достойными прославления в песнях. В этих балладах, как правило, не отмечалось, насколько комфортными зачастую бывали их отношения с так называемыми врагами. Подобное напряжение прослеживается и в народной поэзии всего региона. На Балканах героями эпических песен, как правило, оказывались великие христианские правители и полководцы, такие как князь Марко, Иоанн Хуньяди и Вук Огненный Дракон, которые бросили вызов османским армиям во время первых волн завоеваний в XIV и XV веках. Милош Обилич, звезда величайшего цикла сербских героических баллад, прославился тем, что убил османского султана, разве что только после того, как основная битва была уже проиграна, а сербская армия уничтожена.
Южнославянские эпосы, к которым относится и «Битва на Косовом поле», часто представляют собой сказания о кровопролитии и межрелигиозных распрях. Но при внимательном прочтении они раскрывают больше нюансов. Часто их герои работают как на султана, так и против него. По его приказу они сражаются с мусульманскими героями и разбойниками, которые равны христианам по силе и доблести. Когда христианский князь Марко сражается с чудовищным мусульманским разбойником Мусой Кеседжией, ему удается победить его только с помощью феи vila, которая подсказывает ему, как поранить врага так, чтобы обнажились три сердца, бьющиеся в его груди. Когда Марко наконец убивает Мусу, он плачет, ибо понимает, что убил лучшего, чем он, человека.
В другой раз князю Марко выпадает сразиться с величайшим героем боснийских мусульман Алией Джерзелезом, или Алией Булавоносцем. Алия скачет на крылатом коне и обладает силой двадцати человек. Как и Марко, он носит гигантские усы (непременное условие балканской мужественности), такие густые, что кажется, будто он держит в зубах черного барашка. В одной из историй обоим мужчинам снится один и тот же сон, который велит им отправиться по миру и долго искать человека лучше себя. Когда они наконец находят друг друга, Марко плачет и обнимает Алию, восклицая: «Слава Богу и дню, который в нем, ибо я нашел своего заклятого брата». Алия целует его в лоб, и два воина покидают поле боя, связанные друг с другом священным договором о дружбе. Христианско-мусульманское пограничье было местом зрелищного насилия, внезапной дружбы и, прежде всего, постоянно перезаключаемых союзов. Эта неоднозначная земля, одновременно угрожающая и манящая, во многом определила наше представление об исламе в Восточной Европе. Но бо́льшая часть исламской жизни протекала вдали от границы, в условиях относительного спокойствия. Она разворачивалась в банях и караван-сараях таких сонных городков, как Фоча и Карнобат, или в крупных городских центрах, таких как Сараево и София.
Османские Балканы считались неотъемлемой частью мусульманского мира на протяжении пятисот лет – дольше, чем большая часть Латинской Америки была католической. Однако иногда бывает трудно полноценно осознать, что было достигнуто за эти столетия. Большую роль сыграла историография. История ислама в Юго-Восточной Европе, к сожалению, носит сиротливый характер. Историки из христианских стран Балкан склонны были рассматривать эпоху османского владычества как своего рода культурную ядерную зиму, во время которой ничего не могло вырасти, не прорастало новых побегов. Они очень ошибались.
Вся система балканских городов – творение османов. Крупнейшие города Боснии и Албании, среди которых Сараево, Мостар, Тирана, обязаны своим существованием османскому фундаменту, а в Болгарии города Пловдив и София были почти полностью отстроены именно ими. Османские инженеры построили акведуки, дороги и мосты такой красоты, что те стали частью мифов. Путешествовать по шоссе Стамбул – Белград в османские времена означало передвигаться от одной искусно спроектированной гостиницы или постоялого двора для путешественников к другой. В городах можно было делать покупки в каменных рыночных павильонах или на крытых торговых улицах, подобные которым до сих пор можно увидеть в Старом городе Сараево. Само Сараево выросло вокруг большого караван-сарая, постоялого двора, основанного мусульманским пограничным владыкой Иса-беем.
Хотя Балканы были лишь частью – и зачастую довольно сонной – обширного османского мира, c шумным Стамбулом их связывали бесчисленные узы, основанные на политике, религии и торговле. В 1600 году шестисоттысячное население Стамбула вдвое превышало население Парижа и втрое – Лондона. Огромная организация по закупкам, в которой работали как христиане, так и мусульмане, обеспечивала город мясом и зерном. Их работа была настолько важна, что имперская администрация была вынуждена внимательно следить за тем, чтобы все шло гладко. Только в Софии в гильдию торговцев входили десять ювелиров, семь сапожников, четыре трактирщика, два бакалейщика, гончар, лодочник, прядильщик козьей шерсти и два продавца христианского шербета, один из которых был по совместительству шпионом исламской тайной полиции.
Именно это длительное сосуществование, а не внезапный акт отступничества, привело к большим волнам обращения, в результате которых Босния и Албания стали государствами, большинство населения которых было мусульманским. На Балканах христиане поддавались медленному, гравитационному притяжению возможностей и стимулов, предлагаемых исламской империей, в которой они жили, в то время как мусульманские эмигранты из Анатолии и восточных районов вливались в окружавшее их «неверное» общество.
Османская империя предоставляла множество возможностей христианам, готовым отречься от своей веры. Армии и флот султана были полны дезертиров из Италии, Греции, Сербии и Венгрии. В XIX веке эти военные перебежчики стали настолько многочисленны, что их сформировали в отдельный армейский полк murtad tabor, или «отряд предателей». Но не все, кто пересекал границу между конфессиями, делали это по собственной воле. Многие оказывались в мусульманских землях по принуждению, в качестве военнопленных или пленников татарских налетчиков, которые продавали их на одном из многочисленных невольничьих рынков Средиземноморья. Именно так небезызвестная Рокселана попала в Стамбул: дочь православного священника с Украины превзошла соперниц в его гареме и стала любимой женой Сулеймана Великолепного и матерью его наследников. Но судьба Рокселаны была исключительной. Более типичной была бы история Теодоры Тедеа, албанской женщины, родившейся около 1580 года. В 21 год Теодора попала в плен на турецкую галеру и была выдана замуж за мусульманина в Османской империи. Через несколько лет ее забрал греческий христианин и продал итальянцу в Неаполь, где она в конце концов рассказала свою историю инквизиции и отвоевала свою свободу.
Архивы инквизиции в Италии полны свидетельств, подобных истории Теодоры. Мусульмане в Османской империи полагались на рабскую силу с христианских земель; в свою очередь, многие христиане имели рабов, захваченных у мусульман. Жизнь на границах была коварной: как для мужчин, так и для женщин минутная невнимательность могла означать десятилетия, проведенные в дворцовом гареме или на галере. Именно это едва не случилось с Джоном Смитом, который после приключения с участием трех турков был схвачен и продан турецкому дворянину, но сумел бежать обратно в Англию через Польшу и Литву.
Плен был незавидной участью. Однако для некоторых христианских женщин добровольный переезд в Османскую империю мог открыть двери, которые в противном случае были бы для них закрыты по причине повсеместной гендерной дискриминации. Саломея Пилштын, родившаяся в 1718 году в католической семье на территории современной Беларуси, вышла замуж за лютеранского врача, который занимался медицинской практикой в Османской империи. Саломея изучила медицину и начала работать офтальмологом. Когда муж бросил ее, она открыла собственную практику сначала в Эдирне, а затем в Софии. Та м она занялась еще более прибыльным делом – выкупом пленных. Она выкупала у османских работорговцев пленных габсбургских офицеров и взимала с их семей плату за возвращение. Одного из таких выкупленных офицеров, немца из Словении по фамилии Пихельштейн (по-польски Пилштын), она оставила себе и вышла за него замуж.
Они отправились в Санкт-Петербург, где она лечила дам при дворе императрицы Анны. После еще нескольких лет путешествий она развелась с Пихельштейном, которого обвинила в супружеской измене, вымогательстве и попытке отравления. Он оказался грабителем, и не последним, с которым она связалась. При этом Саломея была склонна к средневековым обвинениям – например, она считала, что еврейская конкурентка в Стамбуле использует черную магию, чтобы красть ее пациентов. Оставшись одна, Саломея устроилась императорским офтальмологом в гарем султана Мустафы III, а затем отправилась в Крым, где поступила на работу в гарем хана.
Саломея добровольно перебралась с севера на юг и с юга на север, но другим повезло меньше. Бесчисленное множество выкорчеванных военнопленных всю жизнь тосковали по утраченной родине. Для таких несчастных наибольшей надеждой на возвращение было божественное заступничество. Одна народная сказка повествует о молодой женщине из Сараево, взятой в плен австрийцами во время террористического набега под предводительством принца Евгения в 1697 году. Ее отвезли в Вену и заставили убирать покои принца – все, кроме одной комнаты, куда ей было запрещено входить.
Однажды, когда принца не было дома, она открыла дверь в его дворец и встретила добродушного старика в тюбетейке. Тот расспросил ее о жизни и о том, как она оказалась в этом странном городе среди неверных. Она рассказала ему о своей прежней жизни в Сараево, о разграблении города и о том, как принц Евгений увез ее на север в качестве добычи. Затем старик спросил, знакома ли ей мечеть Магриба в западной части Сараево и хотела бы она сейчас побывать там. Женщина кивнула. Старик сказал: «Встань на мой халат и закрой глаза!» Она закрыла глаза и встала на его халат. Когда она открыла их, она снова оказалась в Сараево.
Святых-чудотворцев, подобных безымянному суфию, который помог женщине из Сараево, можно назвать великими объединителями Восточной Европы. Их гробницы веками привлекали поклонников всех вероисповеданий. Они оказывали милосердие всем желающим. У святого Николая и Девы Марии были мусульманские последователи, а христиане часто посещали гробницы мусульманских святых. Христиане и мусульмане также отмечали многие одинаковые праздники. На Рождество мусульмане в Албании помогали католикам рубить йольское полено, а католики принимали участие в праздновании Байрама. В дни поминовения святых все собирались в святилищах под открытым небом, чтобы воздать хвалу и получить благословение.
Этот вид синкретизма нашел отклик в народных верованиях. Христиане и мусульмане пользовались одними и теми же народными средствами и обращались к традициям друг друга в поисках исцеления. Мусульмане целовали христианские иконы и крестили своих детей; христиане на смертном одре приглашали мусульманских дервишей, или членов мусульманских духовных братств, читать над ними Коран. В Польше и Литве считалось, что татары-мусульмане лучше всех лечат эпилепсию и душевные болезни. До Второй мировой войны городские христиане и евреи обычно отправляли своих душевнобольных родственников жить к мусульманским семьям в сельскую местность.
Нигде так искусно не переплетались мусульманские и христианские верования, как в Албании. В одном высокогорном клане могло уживаться три ветви – одна мусульманская, другая католическая, а третья – католическая, но избегающая употребления свинины (старший брат в родовой семье клана принял ислам, второй – нет, а младший соблюдал халяль из почтения к старшему). В 1638 году итальянского монаха, посетившего албанскую деревню в Косово, приняли в мусульманском доме со словами: «Входите, святой отец: в нашем доме есть и католицизм, и ислам, и православие». Потрясенный, он сообщил, что албанцы, «казалось, превозносят такое разнообразие религий». Представьте себе, как бы он расстроился, услышав проповеди суфиев-бекташи, которые поучали христиан, что «Мухаммед и Христос – братья».
Среди исламских святых Восточной Европы никто не выдавал себя за стольких разнообразных личностей и не привлекал последователей стольких вероисповеданий, как хамелеон Сари Салтык. Выдающийся народный герой балканского ислама: оборотень, трикстер, воин и мастер популярного зрелищного вида спорта – религиозно-научного спора. Примечательно, что Салтык, по-видимому, был реальной фигурой – религиозным лидером, который где-то в XIII веке помог обратить в ислам кочевников Золотой Орды (отколовшегося государства Монгольской империи, правившего Южной Россией и соседними степями). Как и у других исторических личностей, прославившихся своими чудесами, таких как Баал Шем Тов и Жанна д'Арк, у Сари Салтыка была своя легенда, которая быстро переросла в миф.
Сари Салтык скакал на волшебном коне и защищал себя непробиваемым щитом. Деревянным мечом (который когда-то принадлежал пророку Мухаммеду) он разбивал скалы. Кипарисовым посохом он открывал священные источники. Он сражался не только с христианскими рыцарями, но также с джиннами и ведьмами. Подобно святому Георгию, с которым его сравнивали, он убивал драконов. Он предлагал неверным возможность стать мусульманами и убивал их только в случае отказа.
Но Сари Салтык не просто сражался; он также проповедовал на двенадцати языках, и на каждом из них его речь лилась, как золото. Он часто выдавал себя за раввина или священника. Он так хорошо знал Евангелие и Тору, что во время своих проповедей доводил прихожан до слез. В Гданьске, согласно легенде, он убил святого Николая, городского патриарха, а затем облачился в его рясу. В этом обличье он многих обратил в ислам.
Сари Салтык продолжал обращать в свою веру даже после своей смерти. Незадолго до кончины он приказал своим ученикам подготовиться к его погребению в нескольких местах, сказав им: «Похороните меня здесь, но выкопайте и другие могилы. Вы найдете меня в каждой из них!» Салтык знал, что его могила станет местом паломничества и магнитом для новообращенных, поэтому стремился увеличить охват паствы посредством нескольких могил. Он распорядился поместить четыре гроба в христианских странах, а три – в мусульманских. Согласно другим версиям, у него было двенадцать гробниц или даже сорок. Те, что в христианском мире, так и не были найдены, но его могилы в мусульманских землях действительно многочисленны – настолько, что точки, претендующие на звание места захоронения Сари Салтыка, можно смело назвать османским эквивалентом тех американских гостиниц, которые до сих пор утверждают, что «у них останавливался Джордж Вашингтон».
Отследить расположение гробниц Сари Салтыка на Балканах – это словно окунуться в сказочную жизнь европейского ислама. Быстро становится очевидным, что он выбрал для них самые мистические места на всем полуострове. На мысе Калиакра в Болгарии его могила находится на скалистом мысе в форме иглы, уходящем примерно на два километра в заполненные кораллами воды Черного моря. В районе Круя в Албании в пещере на вершине горы находится гробница, откуда открывается потрясающий вид на Адриатическое побережье от Дюрреша до Скутари. В деревне Благай в Боснии и Герцеговине могила Салтыка находится под суфийской ложей XVI века tekija. Ложа расположена в устье реки Буна, в том самом месте, где та вытекает из пещеры, вырубленной в вертикальной стене из твердого герцеговинского известняка. В день моего посещения река была в разливе. Домик, окруженный желтыми гранатовыми кустами и деревьями хурмы, казалось, дрожал над ярко-зелеными паводковыми водами. Я наблюдал, как они текли мимо из одной из застеленных коврами комнат домика, в то время как муэдзин с балкона призывал к послеполуденной молитве. Замысловатая резьба по потолку над моей головой, изображающая луну, звезды и другие небесные явления, выполненная из дерева столетия назад, вдохновляла на созерцание космоса.
Ложа Благадж, которая сегодня является резиденцией действующего суфийского ордена, ассоциируется с исламским мистицизмом времен Сулеймана Великолепного в XVI веке. Но самая красивая гробница Сари Салтыка находится в церкви. Монастырь Святого Наума – древнее сооружение, основанное в 905 году самим святым на берегах Охридского озера. Наум выбрал очаровательное место для своего монастыря. Охридское озеро, полоска спокойной бирюзовой воды, мерцающая в горном воздухе, выглядит как капелька Эгейского моря, упавшая посреди Ябланицких гор. Монастырь стоит на берегу – сейчас это граница между Северной Македонией и Албанией, – где у подножия горы Галичица бьют несколько источников. Они ледяные и необычайно чистые. Место, где они появляются, окружено рощей высоких, увитых плющом дубов, посреди которых стоит одинокая раскидистая смоковница.
Никаких официальных записей, связывающих монастырь Святого Наума с Сари Салтыком, нет, но верующим легко увидеть доказательства. На фреске над могилой святого Наума в монастырской церкви они узнают члена ордена бекташи, переодетого православным монахом, но в характерной шляпе суфийского святого или дервиша. Рядом с ним на стене другой дервиш восседает в колеснице, запряженной оленем и львом. Не важно, что под этим образом подразумевался пророк Илия: комплекс монастыря дополнен гробницей святого, как и пронизан присутствием памяти о Салтыке. Каждый июль его последователи прибывают в монастырь, чтобы почтить память своего святого – в основном цыгане-мусульмане из Македонии и ее соседей, они устраивают праздник, разбивая лагерь на пляже рядом с монастырем, зажигают свечи и приносят в жертву животных.
Этот вид ритуального жертвоприношения животных, называемый kurban, практикуется по всем Балканам представителями всех социальных слоев. Томаш, тесть моего двоюродного брата – антрополог, изучающий традиционные формы архитектуры и культа на Балканах, – когда-то жил с семьей в деревне Дебар (Македония). Глава семьи попросил его принести в жертву ягненка. Он нервничал: жертвоприношение – дело рискованное: если совершить его неправильно, можно испортить урожай на целый год. Однако его просили сделать это не ради семьи, а для его же собственного блага. Как взрослый человек, который никогда раньше не приносил в жертву животных, он подвергался серьезной опасности скорого несчастья и ухудшения здоровья. Эта практика распространена не только в сельской местности. Недавно, когда у Томаша начались проблемы со зрением, его коллеги по университету в Софии принесли в жертву петуха, чтобы помочь ему вылечиться.
Из всех гробниц, связанных с Сари Салтыком, гробница в Бабадаге на востоке Румынии кажется самой старой и, возможно, самой подлинной. Еще в XIV веке великий путешественник Ибн Баттута посетил там гробницу, а в последующие столетия туда доехали османские султаны и неутомимый Эвлия Челеби.
Название Бабадаг в переводе с турецкого означает «отцовская гора» и относится к паре небольших холмов недалеко от города.
Хотя их высота не превышает нескольких сотен футов, они кажутся огромными, поскольку расположены в одном из самых плоских мест в Европе, на равнинах Добруджи, к югу от того места, где Дунай делится на свою дельту.
В 1600-х годах, когда святилище Салтыка turbe посетил Эвлия Челеби, оно уже считалось древним. В течение столетий после того, как османы покинули эту часть мира, оно страдало от непозволительного пренебрежения. К 1960-м гробница почти разрушилась. Недавно турецкое правительство восстановило ее. Обезоруживающе маленькое, почти приземистое здание, маленький куб из побеленной каменной кладки, ютится под неприметным красным куполом. Хорошо отесанный деревянный гроб Сари Салтыка – предположительно, последний в серии – единственное, что находится внутри, не считая ведра и швабры. Впереди, в поле среди оранжевых тигровых лилий, стоят несколько древних надгробий, на которых вырезаны арабские письмена.
Похоже, никто в Бабадаге не обращает особого внимания на святилище Салтыка. За ним ухаживают, содержат в чистоте, но не посещают. Туристы скорее обращают внимание на другое святилище, спрятанное вдали от города на самой вершине горы-отца. Однажды я узнал о нем из карты. Это могила Коюн Бабы, еще одного святого-дервиша, который еще более загадочен, чем Сари Салтык. Он был пастухом и жил в глубине Анатолии где-то в Средние века. Его единственная претензия на славу заключается в том, что он никогда ни с кем не разговаривал. Кажется, он никогда не выезжал из Анатолии, и как именно его могила оказалась в этом румынском городе, остается загадкой. Возможно, как и Сари Салтык, он добрался сюда на грозовой туче.
Заинтересовавшись, я отправился на поиски его святилища к вершине горы-отца. Пока я пробирался через лес карликовых дубов, покрывающий ее вершину, с запада надвигались дождевые облака. С высоты ста метров я мог разглядеть облака, плывущие над равнинами от самой Бразилии. К тому времени, как я добрался до вершины, они рассеялись. Из города внизу поднялся невероятный шум. Каждый петух, курица, корова, овца, коза и собака в Бабадаге мычали от восторга или лаяли от неудовольствия.
Могилу я нашел. Она находилась рядом с поляной, усеянной дикой мятой и фиолетовыми полевыми цветами. Сама могила была простой и современной. Надгробие было выложено из случайных кусочков мрамора, а очертания тела очерчены обломками бетона. Имя Коюн Бабы было выведено черной краской рядом с золотой пятиконечной звездой. Черная земля в центре могилы была усыпана тюльпанами и дешевыми свечами. Наверху к ветвям каждого дерева были привязаны кусочки цветной ткани. Гирлянды из них – какие-то красные, какие-то желтые, какие-то разноцветные, а какие-то в синюю и белую полоску, как на греческом флаге, – висели у меня над головой, орошая дождевыми каплями.
К тому времени как я спустился с горы, дождь прекратился. Многочисленные выбоины на грунтовых дорогах Бабадага были полны дождевой воды. Пара цыганских детей прыгала в большую лужу, а их мать метлой сметала воду с выложенного плиткой крыльца. Ее широкие серьги-кольца и золотые цепочки сверкали в лучах только что проснувшегося солнца.
Усыпальницы святых, таких как Сари Салтык, служили местами встреч, где представители разных конфессий могли собираться вокруг общего источника, несущего благодать. Щедро раздавая всем посетителям поровну, эти гробницы преподносили важные уроки духовной щедрости. Но если святые люди могли выступать учителями, то и их противники иноверцы тоже могли, ибо конфликт, как и молитва, – форма близости, поддерживаемая поколениями, он тоже может научить чему-то в деликатном искусстве сосуществования.
Польша и Литва провели большую часть ранней современной истории в конфликте с Османской империей, активно воевали с ней. Обе страны одерживали великие победы и терпели ужасные поражения от рук друг друга. Тем не менее со временем продолжительные контакты между двумя государствами привели к определенной близости. Иногда это проявлялось в мелочах: в XVIII веке командиры пограничных застав посылали друг другу небольшие подарки с противоположных берегов Днестра. Полтора столетия спустя правнук одного из этих пограничников все еще хранил один из этих подарков как драгоценную семейную реликвию: мешочек из красного шелка, полный пожелтевших страниц, покрытых комплиментами, написанными мелким, витиеватым почерком той утонченной эпохи.
В других случаях эта близость проявлялась в более грандиозных жестах. После того как Польша потеряла свою независимость в 1795 году, став частью России, Пруссии и Австрии, Османская империя отказалась признать распад государства. Она позволила последнему польскому послу в Стамбуле сохранить свой пост. В течение следующих тридцати лет османы платили ему зарплату и позволяли присутствовать на встречах divan с представителями других европейских держав. Ему также была предоставлена турецкая охрана, или kavas. Согласно легенде, всякий раз, когда он проходил мимо охраны других европейских послов, они качали головами и с жалостью вздыхали: «Вот kavas, тень драгомана, государства, которое было стерто с карты мира!»
До тех пор пока Польша не восстановила свою независимость в 1918 году, османские официальные лица в начале каждой аудиенции с западными державами объявляли, что «депутат от Лехистана [Польши] еще не прибыл». Этот великолепный образец рыцарства, возможно, был вдохновлен или, по крайней мере, предвосхищен чем-то произошедшим много веков назад. В 1622 году жестокая война между Османской империей и Речью Посполитой подошла к концу, и пришло время подписать мирный договор.
Для переговоров о сделке польский сенат направил князя Збараского, одного из богатейших людей содружества и бывшего ученика Галилео. Збараский прибыл в Стамбул с распростертыми объятиями, великолепной свитой и щедрыми подарками. Те м не менее телохранители султана, янычары, не спешили проявлять доверчивость. Они показали Збараскому забальзамированную голову визиря, которого только что свергли, а также многих его предшественников. Доходчивое предупреждение. Польский посланник его понял. Он сказал им: «Пусть моя голова пополнит коллекцию, если я не буду верно служить вам».
На следующий день Збараский встретился с султаном. Для этого случая он приберег свой лучший подарок. Мужчина вытащил из золотого сундука старый пергамент: последний мирный договор между Польшей и Турцией, подписанный почти столетием ранее Сулейманом Великолепным и Зигмунтом Старым. Турецкие сановники столпились вокруг, чтобы прикоснуться к документу, который держал в руках сам великий законодатель. Затем перед собравшимся двором Збараский зачитал заключительные слова пакта, адресованные султаном королю Польши:
«Мне семьдесят, и ты тоже стар, нити наших жизней обрываются. Скоро мы встретимся в более счастливых краях, где будем сидеть, пресыщенные славой, рядом со Всевышним, я по правую руку от него, а ты по левую, и говорить о нашей дружбе. Твой посланник Опалинский расскажет вам, в каком счастье он повидал твою сестру и мою жену. Я сердечно передаю его Вашему Величеству. Прощай».
При этом, как сообщает нам летописец, все присутствующие пролили обильные потоки слез. На мгновение им всем представилась картина взаимовежливости и уважения, почти невыносимо прекрасная.


