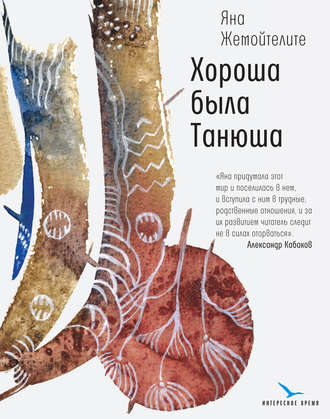
Яна Жемойтелите
Хороша была Танюша
– Да? – слезы у нее давно иссякли, и она думала только, как скорей выбраться отсюда. – Тогда запишите в протокол, что у меня свекор прокурор республики. Петр Андреевич Ветров. Можете даже ему позвонить.
– Может, тебе еще сам Андропов дядька? – хмыкнул милиционер. – Андропову звонить не надо?
В конце концов ее отпустили, потому что предъявить оказалось действительно нечего. И она поплелась домой, зареванная, в сбившемся платке, едва волоча ноги. Проходя мимо кинотеатра, она вспомнила про Маринку, однако после всего, что случилось, заглядывать внутрь не решилась. Попросту испугалась. Ей надо было срочно попасть домой и хотя бы умыться. Ей казалось, что лицо ее заляпано жирной липучей грязью, что теперь она замарана навсегда перед всем миром, но более прочего перед государством. Чем она была виновата? Да уже тем, что могла вот так запросто сходить в кино, когда другие вкалывали на производстве. Она давно догадывалась, что человек рожден для того, чтобы каждую минуту вкалывать – на производстве или у себя дома. Вдобавок каждый гражданин страны Советов в принципе был в чем-либо да виноват перед государством, и задача государства – только установить эту его вину… А «внутренний мир», о котором любила говорить Вероника Станиславовна – это вообще ничто на фоне государственных интересов. И это Танюшкино внутреннее Я опять чему-то явно не соответствовало, чему-то очень важному, чего Танюшка никак не могла уловить и сформулировать для себя.
Дверь была закрыта изнутри на верхний замок. Значит, кто-то совсем некстати приехал на обед домой. Сергей? Пальцы дрожали, Танюшка с трудом нащупала ключом замочную скважину, однако дверь уже открывали изнутри.
Дома был Петр Андреевич. Танюшка попыталась было быстро скинуть сапоги и пальто в темной прихожей и проскользнуть в ванную, однако по ее прерывистому дыханию он понял, что что-то явно не так, и спросил, что случилось.
– Представляете, – она попробовала говорить спокойно, но голос сорвался, и она опять откровенно разревелась, заново переживая свое унижение. – Мы с Маринкой просто пошли в кино, а меня там милиция… в милицию…
Путаясь в словах, она объяснила, что случилось, и наконец опять расплакалась, утирая слезы уголком платочка.
– Нет, главное, меня отпустили, а Маринка… Что с ней такое? Кто-нибудь вызвал «скорую»?
– Не реви, ну все, все, – произнес Петр Андреевич как можно мягче. – Фамилию милиционера запомнила?
– Фамилию?.. Какую фамилию? Он там сидит, в отделении, почти во дворе кинотеатра.
Накинув дубленку, Петр Андреевич быстро вышел. Вернулся скоро, не прошло и получаса, в нервном, возбужденном состоянии, даже поругиваясь сквозь зубы, чего не бывало прежде.
– В общем, так, Танечка, не переживай. С милиционером будет отдельный разговор. Он явно перед начальством выслужиться хотел, да перестарался. А Маринку твою увезли в горбольницу на «скорой», билетерша вызвала.
– С ней что такое? Вам сказали?
– Ну, она молодая девчонка, думаю, ничего страшного. В конце концов туда можно позвонить, а вечером навестишь, – и тут, вздохнув шумно и глубоко, будто действительно переживая некий серьезный момент. – До чего несуразно получилось. Сегодня Татьянин день, ты хоть это помнишь?
– А? Да-да… – Танюшка попробовала улыбнуться, но получилось плохо.
– Тогда чего сидишь, как мертвая царевна? Я специально домой заехал… – он как будто бы подыскивал слова в свое оправдание, что было уж совсем странно, и Танюшка даже посмотрела на него с любопытством.
– В общем, мы с Сергеем решили сделать тебе подарок… – смущаясь и даже немного покраснев, он полез во внутренний карман пиджака и выудил оттуда бархатную коробочку.
Танюшка подумала бы, что в этот момент Петр Андреевич выглядел крайне глупо, однако она не могла о нем так подумать, поэтому просто приняла эту коробочку, точно так же смущаясь и краснея. В коробочке обнаружился золотой кулончик-солнышко на цепочке, который Петр Андреевич тут же предложил ей надеть и некоторое время еще неловко возился с застежкой, дыша ей прямо в затылок.
Кулончик был почти горячий и по-настоящему жег Танюшкину кожу, как сгущенный огонь. Она слегка ахнула и прикрыла кулон ладошкой.
– Что? – низким и тихим голосом спросил Петр Андреевич.
Ее синтетическая кофточка ответила электрической искрой. Или, может быть, это заискрил сам воздух. Обернувшись, Танюшка отступила на полшага, но все равно осталась к нему слишком близко, почти вплотную, почти упираясь в него отчаянно торчащим животом.
– С-спасибо, – едва совладав с собой, но все еще тяжело дыша, сказала Танюшка. – Но почему это дарите вы, а не Сергей? Он что же, попросил вас?..
– Нет. Но… В общем, не задавай лишних вопросов, – Петр Андреевич перешел на обычный свой суховатый тон, и голос его обрел прежний тембр. – В конце концов, ты внука моего носишь… Ну, не скучай, а мне пора.
Когда за ним захлопнулась дверь, Танюшка еще выглянула в окно, ожидая, что вот сейчас он выйдет из подъезда, пройдет к машине.
Через полминуты Петр Андреевич вышел из подъезда, сделал шагов пять и – обернулся на окно, в котором была она. Она даже немного испугалась оттого, что он обернулся, однако не стала прятаться, а робко, почти незаметным движением, помахала ему. Он улыбнулся и ответил ей, высоко подняв руку над головой.
И только когда его машина отчалила со двора, Танюшка опомнилась: она же до сих пор не знает, что случилось с Маринкой. Вдруг Маринка решила, что Танюшка ее попросту бросила в этом туалете, злая и бессердечная? Развесила сопли, а всего-то милиционер задержал! Она набрала телефон приемного покоя и терпеливо, переживая каждый свербящий гудок, ждала, когда ей ответят.
– Саволайнен, Саволайнен… Год рождения, говорите, какой? Шестьдесят четвертый? – дежурная на некоторое время замолчала, потом выдала бесстрастным тоном: – Больная Саволайнен поступила сегодня в сахарно-диабетической коме, состояние стабильное, находится в отделении интенсивной терапии.
– В какой еще коме? Как это? Постойте… Ее можно навестить?
– Сегодня нельзя, – отрезала дежурная, и в трубке раздались унылые гудки.
Господи! Кома, сахарный диабет… Какое отношение эти страшные медицинские слова имели к Маринке? И тут Танюшка припомнила, что в последнее время Маринка то и дело бегала пить, срываясь в столовую посреди лекции, совсем истаяла с тела и руки у нее чесались, она еще не могла понять от чего, думала, что от колючего свитера. А в кино эти два стакана сладкого виноградного сока… Да ведь она же просто могла умереть!
Растерявшись, Танюшка набрала служебный номер Сергея, хотя чем он-то мог тут помочь. Сергей ответил по обыкновению сухо, почти рявкнул в трубку.
– Это я-а… – проблеяла Танюшка. – Тут, в общем…
– А, батя уже подсуетился. Ну как, подарочек понравился?
– Что? Д-да. Спасибо…
– Ты прости, я про Татьянин день как-то не подумал, а отец у нас человек старорежимный, именины отмечать привык…
– Сереженька, да, за кулончик спасибо, только я звоню… Маринка в коме, ее увезли на «скорой». Меня туда не пускают. Ты можешь что-нибудь сделать?
– Подожди, – Сергей ответил через паузу. – Ты серьезно? А что случилось?
Он обещал помочь. То есть он почти ничего не обещал, а только съездить вместе с Танюшкой в больницу, поговорить с врачом…
Прошло еще часа три-четыре, в течение которых Танюшка не знала, куда себя деть. Только направляясь на кухню, чтобы заварить чаю и таким образом скоротать время, она мельком увидела себя в зеркале и зацепилась взглядом за кулончик, блеснувший в ямке под шеей. И сразу снова бросило в жар, и жилка забилась под кулончиком, как в тот момент, когда Петр Андреевич возился с замком цепочки, дыша ей прямо в затылок. Как там он ее назвал? Мертвой царевной? Но почему же мертвой? Она вполне живая. Ходит, дышит, чувствует. Вот только жизнь теперь представлялась ей бесконечным ожиданием – своей очереди к телефону-автомату, в гардероб, к кассе и т. д. По большому счету – ожиданием какой-то иной, лучшей доли, которая все откладывалась на потом.
В приемном покое сидел Володя Чугунов, которого Танюшка не сразу признала – виделись они редко. Сперва просто обратила внимание, что вот сидит парень в синей мастерке с очумевшим лицом, держит на коленях драный пакет, из которого торчат бордовые варежки. Маринкины варежки. И так, даже не поздоровавшись, Чугунов начал говорить, что ему велели всю одежду оставить в больнице до выписки, а как тут оставишь, если она пропитается насквозь больничным духом и черт знает когда еще будет эта выписка. С виду Володя Чугунов был настоящая голытьба, наверно поэтому и не мог вот так просто расстаться с одеждой. Если бы не Маринка, Танюшка никогда не стала бы с ним общаться. Даже не из презрения к голытьбе, – сама-то она только недавно выдернулась из такой же точно, разве что чуть припудренной финским флером. А только лишь потому, что жизненный цикл таких вот персонажей был предопределен с самого начала. Они росли в бараках где-нибудь в окрестностях Тяжбуммаша, шли работать на Тяжбуммаш и ничего иного не хотели от жизни. Совершенно ничего. Хотя Володя был хорошим парнем, Танюшка это знала, такие выходили победителями в кино, однако в реальности они не то что проигрывали, а попросту не участвовали в игре, их туда никто не приглашал.
– Ты ее видел? Ты можешь мне рассказать? – она подсела к Володе.
– Как же, пустят к ней. Я понял, что тут только по блату пускают, как и везде.
Сергей, едва подавив смешок, вызвался сходить на разведку и, оставив куртку Танюшке, скрылся за дверью, ведущей в больничные покои. Вскоре оттуда донеслись чьи-то рассерженные возгласы, потом раздалось резкое: «Ждите на лестнице», а следом на высоких нотах зазвучал женский голос, разъясняющий что-то терпеливо и подробно.
Как странно, думала Танюшка, как странно кончается этот день, который вроде бы с утра ничего особенного не предвещал и который вдруг резко разжался пружиной. Татьянин день.
– Что тебе сказал врач? – спросила она Сергея, стоило им только вернуться к машине, оставленной возле приемного покоя.
– Что сахарный диабет – это навсегда, если в общих чертах. А вообще Маринке твоей еще повезло, бригада «скорой» нашла ее в туалете уже без сознания, – и, заметив Танюшкину тревогу, добавил: – Мне отец рассказал, что там случилось. Я завтра этого мента пополам порву. Он у меня огребет по полной!
И он еще долго разорялся по поводу того, что Андропов только трудовую дисциплину повышать велел, а менты на местах выслуживаются, хватают всех без разбору, лишь бы показатель по району поднять. Набрали в милицию безмозглого быдла, которое едва по слогам читает… Потом он вдруг почему-то заговорил о квартире, которую обещали сдать еще в начале января, но затянули, знаешь ведь, как у нас выполняются планы, да они и на бумаге давно не выполняются, а с родителями жить полная засада, папаша так и норовит меня построить, как будто я мальчик, нельзя же всю жизнь прожить по его указке, пора и к самостоятельности привыкать. Танюшка слушала, не перебивая, но и не понимая, с чего вдруг Сергей так завелся из-за квартиры. Ну, поживут они с родителями еще месяц-полтора, рано или поздно эту квартиру все равно сдадут. Там ведь и ремонт делать не придется, как обещают, только мебель расставить… И вдруг поймала себя на мысли, что обитает в совершенно ином пространстве, чем Маринка и тем более ее Володя Чугунов. И что Маринка, которая грызет этот финский язык так, будто он медом растекается во чреве, все равно никогда не сможет заработать на кооператив, даже на «однушку», не говоря о Володе, которому разве что завод выделит квартиру. Когда-нибудь. Нет, зачем вообще ей думать об этом? В конце концов, Маринка сама строит свою жизнь. А ей, Танюшке, нужно думать о том, что скоро появится ребенок. Девочка, непременно девочка, хотя Сергей хочет мальчика. Но это будет красивая девочка, настоящая принцесса, которой никогда не придется колоть дрова и таскать воду с колонки…
– Чего задумалась? Приехали.
Машина остановилась напротив подъезда.
– Ты сейчас так хорошо откинула со лба прядку, – сказал Сергей. – Можешь повторить?
– Зачем?
– Просто очень изящный жест.
Танюшка механически провела ладонью вдоль линии лба, заслужив поцелуй Сергея.
– Я, кстати, по случаю бутылочку прихватил, – сказал он.
– По какому это случаю?
– Татьянин день, как-никак. Или ты собираешься мне трезвенника родить?
1984
Весна
Светало рано, очень рано. Несмотря на ночные заморозки, запоздавшая весна обещала близкое тепло и близкую радость, раздавая по своему обыкновению щедрые обещания. Весне хотелось верить, грядущему вообще…
Схватки начались под утро, когда ей смертельно хотелось спать, и она поначалу пыталась отмахнуться от боли, чтобы поспать еще, но тут внутри нее что-то лопнуло, боль скрутилась внизу живота тугим узлом, и скоро не осталось ничего вокруг, кроме этой раздирающей боли. «Сережа, Сережа!» – она сперва звала мужа, который со сна плохо соображал, что делать, потом звала маму, потом, охая и стиснув зубы, долго спускалась по бесконечной лестнице, потому что Сергей решил, что довезет ее быстрей, чем приедет «скорая».
Потом, мучаясь в предродовом отделении и периодически, между болью и нестерпимой болью, снова ныряя в сон, вызванный уколами, которые ей щедро вкатили, она успевала вскользь подумать, что пусть лучше будет больно ей, чем ребенку. «Все в порядке, Таня, все в порядке», – толстая медсестра, которая что-то делала с женщиной на соседней койке, изредка повторяла бесцветным голосом, пытаясь то ли действительно ее успокоить, то ли оправдать свою неспособность приглушить ее боль. И Танюшка снова ныряла в черный глубокий сон, из которого всякий раз вырывал ее медведь, терзавший когтистой лапой ее нутро, пожиравший кишки и печень. Прямо над ней под потолком нервно мерцала желтая лампочка, и казалось, что этой лампочке тоже больно, потому что если есть боль, то кроме нее в мире не остается ничего другого. Только больная лампочка снаружи и медведь внутри. А где-то в параллельном мире, напитанном золотистым светом, по желтой глади первобытных вод плавала ее доченька, укутанная лепестками лилий, в блаженном неведении о страдании и о том, что именно называется жизнью. Зачем она так упорно стучалась сюда, разрывая изнутри свою мать?
Боль пронзила ее насквозь острой пикой, выскочив изо рта безумным, некрасивым криком. Крик заставил наконец явиться врача, до сих пор блуждавшего где-то в гулких сквознячных коридорах, ведущих в саму преисподнюю. «В родзал, у нее полное раскрытие!» Толстая медсестра, подхватив Танюшку подмышки, заставила ее подняться и следовать за ней в родзал, где уже корчилась на столе толстая женщина с рыжими растрепанными кудрями.
Потом боль отпустила, остались только пульсирующие схватки, тяжелое дыхание и побудительные возгласы черноглазой врачихи: «Давай, давай!», в какой-то момент почти превратившиеся в кудахтанье. Черная птица с сиплым надрывным криком захлопала крыльями, пытаясь взлететь вверх, вверх, к самому потолку, искусственному мертвенно-бледному свету. Еще, еще раз! Пырх-пырх, в последней, смертельной потуге тела… Потом разом все кончилось, и ярко-розовый комочек жалобно заплакал на руках у врача.
– Покажите мне девочку, – попросила Танюшка.
– Откуда ты знаешь, что девочка?
Влажные черносливы глаз и черный пушок на головке – это была ее девочка, с болью и кровью вырванная из когтистых лап огромного медведя. Сколько страхов и суеты вокруг этих родов, а ведь есть только боль и кровь, страдание, через которое зачем-то нужно пройти… «Отдыхай пока!» Дочку у нее сразу забрали и куда-то унесли.
В послеродовой палате лежала эта женщина с рыжими растрепанными кудрями. Уже спокойная, умиротворенная, она сразу же спросила Танюшку, кто у нее родился и сколько ей лет.
– Я и гляжу, ты еще молодая, первый ребенок. А у меня уже третий. Я из Усть-Тулоксы сюда приехала рожать, потому что у меня варикоз, я даже летом в колготках хожу. Врачи говорят, дура, что ли, третьего ребенка рожать? А если у меня второй муж своего ребенка хочет? Муж, он еще не у каждой есть, у нас в поселке вообще большая редкость. У тебя есть муж?
– Есть.
И вот только сейчас Танюшка вспомнила про Сергея, который остался где-то очень-очень далеко и ничего не знал о том, что у них теперь есть доченька. Он, конечно, расстроится, что не мальчик, но это ничего, мальчика можно будет родить как-нибудь потом…
Сестра принесла им холодные макароны и чай.
– Ничего другого нет, мамочки, извиняйте, все уже съели.
– А сколько сейчас времени? – спохватилась Танюшка.
– Сейчас три часа. Твой-то муж с самого ранья так и сидит в приемном покое. Солидный он у тебя, представительный мужчина.
– Так ты за старого вышла? – отозвалась женщина с рыжими волосами. – Правильно. Молодой еще налево гулять начнет, как вон мой первый красавец. За красивого выходила, радовалась, а потом оказалось, что он для всех красивый. Лучше бы я сразу за начальника молокозавода вышла, он предлагал, а я нос воротила, мол, лысый. Второй-то муж у меня тоже лысый, грузчиком работает, зато надежный…
– С чего вы взяли, что у меня муж старый? Ему двадцать пять, – сказала Танюшка с обидой.
– Нет, тогда это не твой муж там сидит, говорю, представительный такой мужчина, седой, – медсестра раздала им заскорузлые пеленки, которые полагалось носить при родах вместо трусов. – Кровить еще дней десять будет. И не вздумайте просить родных, чтобы вам вату или марлю сюда таскали. Запрещено это у нас.
Танюшка не сразу сообразила, что в приемном покое сидел не Сергей, а Петр Андреевич. Сергей, передав ее врачам, тут же укатил домой собираться на службу, обещая периодически названивать и справляться, как дела. Но почему вдруг Петр Андреевич?..
Теперь они виделись редко. В новой квартире остались только она и Сергей, и то вместе бывали только по выходным, в будни Сергей, подбросив ее в университет, уезжал на работу и, занятый карьерой, появлялся дома ближе к ночи, сосредоточенный и молчаливый. Карьера планомерно поглощала Сергея, и он больше не заикался о том, как в их первые дни, что Танюшка после университета не будет работать, потому что она такая красавица, что его станут преследовать мысли о мужиках, которые будут разглядывать ее спереди и сзади, норовя ухватить лакомый кусок. Она тогда и не возражала, потому что пока что понятия не имела, кем быть и что делать с этим своим финским языком, когда университет окончит. В учительницы пойти? Ну уж дудки. Работать переводчиком? Для этого нужно очень хорошо финский знать, чтобы слова горохом отскакивали от зубов, а спать в обнимку со словарем она не собиралась, это только Маринка может перед сном читать русско-финский словарь… Впрочем, зачем думать об этом сейчас?
Однако мысли не отпускали. Незадолго до родов Сергей купил ей трюмо, чтоб было перед чем расчесывать волосы, заплетать и расплетать косу. Трюмо рождало несколько ее отражений анфас и в профиль, и Сергей говорил, что это называется триптих. И вот, сидя перед собственным триптихом, Танюшка стала задумываться, а к какому типу женщин себя отнести – к сильным или слабым. Об этом еще что-то говорили на психологии, то есть говорили вообще, без перехода на личности. Конечно, она сильная, даже очень сильная. Но вот что странно: стоило ей оказаться рядом с Петром Андреевичем, как сразу прорастала даже не слабость, а хрупкость. Ее почти что не оставалось в мире. И еще большая странность состояла в том, что когда Петр Андреевич улыбался, открывая крупные яркие зубы, в этом всегда присутствовала надежда. Хотя как такое возможно? Разве могут зубы сами по себе внушать надежду?..
Всякий раз, когда девочку приносили ей покормить, она смешно вертела черной головкой, нацеливаясь на сосок, а потом присасывалась к груди пиявочкой. В такие моменты Танюшка снова удивлялась собственному телу, которое без ее участия знало, как кормить ребенка, и просто купалась в счастье, настоящем счастье. «Отдыхай пока», – говорили медсестры. «Отдыхай пока, – вторила рыжеволосая женщина. – Успеешь еще ночей не спать». Счастье отравляли заскорузлые пеленки вместо трусов, но и их в конце концов можно было пережить, потому что они не навсегда. Потому что, как говорил Сергей, медицина была бесплатной, а чего еще можно ожидать от бесплатной медицины.
Через неделю их уже выписывали на волю со словами «Приходите к нам еще».
В лице Сергея читалась усталость или вообще появилось что-то совсем незнакомое, как будто они не виделись очень давно. Танюшка поняла, что успела отвыкнуть от мужских объятий, хотя прошла всего-то неделя. И потом, когда они вернулись в их новую квартиру с просторной кухней, одной большой комнатой и второй крошечной, которая теперь предназначалась для девочки, Танюшка поняла, что не знает, что делать с ребенком, или скорее что делать с Сергеем, потому что она теперь принадлежала исключительно своей девочке.
Ей захотелось принять душ, казалось, что тело и волосы все еще пахли больницей и заскорузлыми пеленками. Раздевшись, она долго и придирчиво рассматривала себя в зеркале. Тело еще не приняло прежних очертаний, она слегка раздалась в талии и одновременно похудела, ребра выступали под кожей и острые ключицы торчали по-детски беззащитно, только грудь, исполненная молока, выглядела просто огромной.
Дверь приоткрылась. Она резко вздрогнула, в висках застучало, изображение в зеркале поехало. Сергей затек в ванную как вор, уронив полотенце и задев плечом зеркало.
– Стой, – он грубо схватил ее и впился ртом в ее сухие губы. – Я хочу тебя. Сейчас.
Это прозвучало как окончательный приговор, поэтому она по-настоящему испугалась, хотя вообще очень редко чего-либо боялась. Она попыталась отстраниться, вырваться из его цепких объятий, однако Сергей воспринял ее порыв как любовную игру и, схватив за загривок, пригнул к ванной.
– Я соскучился, Танька, как же я соскучился.
Он действовал напористо и быстро, разрывая внутри нее едва зажившие ходы и закутки, а она думала только, когда же это наконец кончится, скорей бы, хотя и пыталась не показывать виду, что просто терпит. Эмаль ванны была сколота возле самого стока, и в трещине уже поселилась ржавчина, хотя когда же это успело случиться, они только что въехали. Кран упорно, в четко заданном ритме ронял в ванну прозрачные капли, похожие на слезы, Танюшка успела отсчитать пятнадцать капель: страшно, страшно, страшно, страшно, – когда Сергей позади нее наконец задергался и замычал, а потом затих, прижавшись к ее спине, и напоследок хорошенько треснул ее по заднице:
– Что-то ты похудела Танька, один хребет остался. Ничего, откормим.
Когда он ушел, она включила горяченную воду и плакала, подставляя лицо струям, которые тут же уносили ее слезы, будучи с ней заодно и покрывая ее несчастье. Хотя какое несчастье? Почему? Чего она ожидала по возвращении домой? Или это и была послеродовая депрессия, о которой им перед самой выпиской рассказывала пожилая врач, а она еще похихикивала: ну какая там депрессия, если дети – это же радость несусветная, еще мама так говорила, когда ее спрашивали, зачем она столько детей нарожала.
– Танька, иди чай пить, – позвал Сергей из кухни.
Вытеревшись насухо полотенцем, Танюшка влезла в одежду и вышла из ванной со словами: «Кран капает, надо слесаря вызвать», пытаясь не показывать виду, что переживает.
– Скажешь тоже слесаря. Сам поправлю.
Он не догадывался ни о чем.
И дальше день потек своим чередом, как будто и не случилось ничего особенного. Да и что особенного случилось? Муж грубо отымел жену в ванной, ну так с полным правом, у него штамп в паспорте. Все осталось внутри их замкнутой вселенной. И так, наверное, происходило в любой семье, со всеми женщинами, которые вместе с ней лежали в роддоме, и далеко не все дети получались по обоюдному хотению, в красивой обстановке, как показывали в кино. Но куда подевался королевич, который однажды постучался в их домик, вынырнув из своей сказки?
Прошлой весной у них был такой период, когда они перестали разговаривать, а только целовались. Теперь они тоже разговаривали мало, она к вечеру успевала настолько вымотаться с дочкой, что мечтала только добраться до постели и немного поспать, пока та не хнычет. Вдобавок ей предстояло как-то сдать сессию, и она наконец, как будто опомнившись, взялась за учебу. Однажды, когда она брала с полки книги, он подкрался к ней сзади и задрал халат. Ему нравилось смотреть, как она кормит грудью, а она смущалась под его взглядом, и малышка от этого начинала плакать. Ей казалось, малышка понимает, чем они занимаются в ее присутствии. Влажные черносливы внимательно наблюдали за ними, когда Сергей тащил Танюшку на диван, как зверь в свое логово, невзирая на вопли о том, что подгорит каша. Между ними еще случались минуты нежности, но это была скорее нежность к общему ребенку, Майке, которую Сергей лелеял, как некогда Танюшку: теперь она была иконкой в красном углу, на которую он молился. Иконке ведь не задирают халат и не пригибают голову к ванне, чтобы как следует отодрать. Разве этому посвящались тома сонетов на полках в университетской библиотеке? Овладение – вот что это было, изнанка страсти, близкая к насилию, боли и крови. Или это и есть истинный характер любви, а все остальное накрутили вокруг только для того, чтобы завуалировать ее неприглядную суть?
Неужели между Сережиными родителями тоже случалось такое, что Петр Андреевич хватал за загривок Веронику Станиславовну и пригибал к ванне или, подкравшись сзади, задирал ее халат? Но как же потом Вероника Станиславовна могла рассказывать студентам о Марксе, Энгельсе и пролетариате как передовом отряде? Хотя пролетарии с силикатного завода именно так и поступали со своими возлюбленными, а будучи в подпитии, могли еще и мордой в муравейник засунуть.
Когда Танюшка с горем пополам сдала сессию, их с Сергеем отпустили в ресторан отметить окончание учебного года, а заодно и рождение Майки. В ресторан Танюшке идти было решительно не в чем, поэтому она уговорила Сергея на выходных отвезти их с малышкой к Кате, которая за два дня могла сшить любое платье. А может, Танюшке просто хотелось красивое платье, а такие не продавались. Висела стандартная серятина на стандартные фигуры, равновеликие в бедрах, груди и талии. А на ее тоненькую фигурку, которой не повредили роды, вообще не выпускалось одежды. Денег с сестры Катя бы не взяла, поэтому Танюшка решила расплатиться палкой сервелата и банкой венгерского вишневого джема. О том, что такой существует в природе, она сама не подозревала до замужества.
Городские окраины, новостройки которых были посажены в почву квадратно-гнездовым способом с четкой разбивкой на кварталы-дворы, давно производили на Танюшку странное впечатление. Вроде бы все необходимое под рукой: почта, магазин, садик, школа… И вместе с тем ничего сверх того, ничего избыточного, как будто человек с утра до вечера обречен вращаться по орбите соцкультбыта, находя в этом высшее счастье. При этом абсолютно счастливые женские лица встречались только на обложке журнала «Работница», им хотелось верить, именно тому, что пусть не здесь, не в нашем городе, но где-то же есть оно – то, что называется семейным счастьем. В новостройках оно точно не обитало, иначе это как-нибудь да проявилось бы, каким-то особенным светом, однако и там лица были по обыкновению озабочены тем, из чего приготовить обед и во что одеться.
Катя напекла пирогов, и хотя Танюшка приехала вроде бы по делам, она этим пирогам страшно обрадовалась, тут же провалившись в детство и снова став младшей сестренкой, с которой нянчилась Катя. У них было часа два, Сергей обещал забрать ее около полудня. Катин муж, едва поздоровавшись в прихожей, ушел смотреть «В мире животных». Танюшка отметила мельком, какое странное у него выражение лица, злобно-ироничное, что ли. Он и улыбался с оттенком подозрения: мол, знаю я ваши платья… Заметив Танюшкину тревогу, Катя только небрежно махнула рукой, потом, за чаем уже объяснила, что мужу полагаются какие-то выплаты за контузию, а он уже второй год не может их получить: то одной справки не хватает, то другой, пока одну добудет, у другой срок действия кончится. Катя выглядела веселой, Майку она уложила в кроватку Павлика, и она там сладко спала, не доставляя никаких хлопот, она вообще была тихой девочкой и даже плакала мелодично. А Павлик, протопавший на кухню, как настоящий хозяин, что-то гугукнув, поднял глаза на Танюшку и вдруг обомлел. Не решаясь приблизиться, Павлик издал глубокий сладострастный вздох и устроился на своем стульчике в уголке, не сводя с Танюшки влюбленных глаз. Мужик растет, нечего добавить!
Наскоро убрав со стола, Катя раскинула на нем ткань, огненно-красную, скользкую, в пятнах черных цветов.
Этот отрез Танюшке подарила Вероника Станиславовна, и Катя, с завистью прицокнув языком, еще сказала: «Мне бы такую свекровь». Отрез было откровенно жалко кромсать, наверное, по этой причине он и залежался у Вероники Станиславовны в шкафу, однако Катя, обмерив Танюшку вдоль и поперек и заметив, что ее фигура почти не пострадала, тут же разложила на ткани лекала, очертила их острым портновским мелом и смело, не боясь ошибиться, раскроила по меловым линиям, одновременно рассказывая о том, как на прошлых выходных водила Павлика в Парк культуры на аттракционы и как он испугался карусельного слоника… В некоторый момент Танюшке показалось, что все это какой-то сон. Нет, в самом деле, откуда взялся Павлик? И кто там так сладко сопит в кроватке? Неужели ее дочь? Но ведь совсем недавно их не было, а были только она и Катя, а еще Настя и мама. Они, конечно, все до сих пор существуют, но только теперь порознь. И куда же делась вся прошлая жизнь? Неужели вот так взяла и перегорела в золу, белый пепел?
– Кать, а ты счастлива? – неожиданно для себя спросила Танюшка.
Катя пожала плечами, выдав свою неуверенность:
– Муж, ребенок есть, чего еще надо? Зарабатывает Костя вроде неплохо…
– Он хоть не пьет?
– Полгода держится.
– А чего тогда такой странный?
– Говорю, выплату никак получить не может… Почему ты вдруг спросила?
– Так, вспомнила наше житье на силикатном заводе, как в школу бегали вместе…
– Ну а при чем тут Костя-то?
– Я просто подумала, что еще каких-то два года назад ничего этого не было – ни Кости, ни Павлика, ни Майки, мы ничего не знали о них, а сейчас – как будто так и надо…
– Ничего не поняла, – Катя даже оторвалась от шитья. – Тебе чего недостает, красавица? У тебя хлеб даже не медом, а вишневым джемом намазан. И это, по-твоему, плохо? Тонким слоем, что ли?




