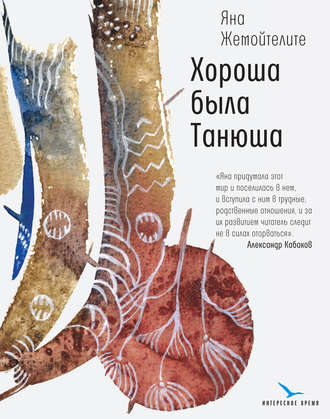
Яна Жемойтелите
Хороша была Танюша
– Нет, это я не к тому вовсе. Только в последнее время мне все чаще вспоминается, как мертвую курицу нам на крыльцо подкинули. Помнишь, я тебе рассказывала…
– Ну и чего? – Катя насторожилась.
– Мне теперь кажется, что в тот самый момент что-то такое навсегда кончилось. Что-то очень важное, понимаешь? Хотя мне казалось, что, напротив, все только начинается. Но ведь чтобы оно началось, что-то должно кончиться, разве не так?
– Да ну тебя, Танька. Курицу дохлую ей подкинули – и все, жизнь кончилась. Подумаешь, курица. Еще бы в магазин куриц подкидывали. Будто не понимаешь, что это все просто от зависти.
– От зависти? Так а чему завидовать?
– Тому, что ты красивая, дура! И этого у тебя никак не отнимешь.
Танюшка вздрогнула. За семейными хлопотами она почти и забыла, что красивая. А может, ей просто уже давно никто не напоминал об этом. Разве что Павлик, но он был еще слишком маленький, поэтому не считается.
Она так и не поняла, понравилось ли платье Сергею. Когда она надела обнову, он только сказал: «Ну вот, сегодня ты в форме». Вроде бы ничего плохого не было в этих его словах, а все-таки они звучали казенно. И в ресторане, хотя Танюшке казалось, что они уже долго не оставались наедине и что им есть что сказать друг другу, разговор то и дело уходил в странное русло: вдруг обнаруживалось, например, что они почему-то обсуждают Настю, которой Петр Андреевич устроил направление на юрфак ЛГУ, потому что считал ее чрезвычайно рассудительной, – именно такие студенты на юрфаке нужны. Предположим, Настя действительно рассудительная, но при чем здесь вообще Настя, разве нельзя было поговорить о ней дома на кухне? Или вот взять Маринку с этим ее плотником Володей Чугуновым. Они собирались пожениться. Конечно, Володя понимал, что сахарный диабет – это навсегда и что вся жизнь теперь будет подчиняться диетам, режиму, уколам инсулина, однако он Маринку не бросил, молодец. Правда, в Финляндию теперь ее не пустят с этим диабетом, медкомиссию она не пройдет, но ведь можно и здесь жить, она уже устроилась на лето в турбюро «Спутник» водить экскурсии в Ленинграде. Туда много старых коммунистов из Финляндии ездит, экскурсоводы их обычно не любят, а Маринка берет. А они ей за это подарки в «Березке» покупают, однажды подарили бронзовую статуэтку Володи Ульянова, Чугунов ею теперь орехи колет… Танюшке казалось, что это очень смешно – то, что она рассказывает про Володю Ульянова, но Сергей едва улыбнулся.
Она огляделась. В полутемном зальчике посетителей было полно, и все откровенно смотрели на нее. Танюшка вспыхнула, ей показалось, что на ней загорелось платье и что именно это пламя притягивает взгляды, ей даже стало за себя стыдно, и она, сказав, что нужно отлучиться, вышла тесным коридорчиком к туалетам. Между «М» и «Ж» висело огромное старинное зеркало, в котором Танюшка наконец увидела себя в полный рост, и – боже! – как же она была откровенно, невообразимо хороша в темно-красном платье с черными цветами и золотым солнышком под шеей, которое заманчиво бликовало в тусклом свете лампочки под потолком. Полагая, что сейчас ее не видит никто, она прошлась и легко крутанулась у зеркала на каблуках, и подол ее красного платья колыхнулся в такт ее вальсирующим движениям.
– Все красуешься? – раздался за спиной низковатый голос с хрипотцой. – А сама кому-то зло сделала.
– Что? – Танюшка обернулась и только сейчас заметила, что в темном углу в кресле кто-то сидит. Черноволосая рыхлая женщина с тяжелыми взглядом и толстыми пальцами, усеянными перстнями.
– Порча на тебе, Татьяна, – назвав ее по имени, женщина зашлась в булькающем кашле и едва перевела дух. – Вот, мне даже имя твое сложно произнести. Значит, точно порча.
– Да кто вы такая? И какое вам дело? – Танюшка хотела немедленно уйти, но что-то ее удерживало на месте.
– Беда вокруг тебя ходит. Спишь, видно, плохо, места себе не находишь, и мужа будто подменили…
– Н-ну…
– Дай мне твое кольцо, помогу! – женщина протянула руку, усеянную перстнями, но тут Танюшка, сделав над собой усилие, сорвалась с места и ринулась тесным коридором назад, ей даже так показалось, что в когтях у этой ведьмы остался обрывок ее платья, и, прежде чем вернуться к Сергею, она хорошенько осмотрела подол, но все было в порядке.
– Где тебя носит? – беззлобно спросил Сергей. – Я-то уж думал, похитили у меня жену. Ты же тут самая красивая.
Танюшка ему наконец поверила и улыбнулась в ответ. Какая там еще ведьма? Да просто пьяная баба возле туалета. Мало ли кто ошивается в этом ресторане, наверняка слышала, как Танюшку зовут, вот и решила по случаю выманить колечко.
– Пойдем потанцуем, – Сергей выхватил ее, как цветок из вазы, и увлек за собой.
1987
Лето
– О работе беспокоиться нечего, Танечка, – голос Петра Андреевича звучал приглушенно, как будто он говорил о чем-то сокровенном, хотя они просто сидели на лавочке возле университета. Танюшке только что вручили диплом, в котором была добрая половина удовлетворительных оценок, но Петр Андреевич успокоил ее, что этот вкладыш в синие корочки у него, например, никто никогда не спрашивал.
– В школу ты не пойдешь, не стоит там нервы мотать, а вот насчет картофелехранилища стоит подумать.
– Карто-фе-ле-хра-ни-лища? – переспросила Танюшка.
– Ой, да я же тебе не рассказал, – Петр Андреевич рассмеялся, и его крепкие красивые зубы странным образом опять внушили надежду. На сей раз на то, что все для нее сложится хорошо.
– Финны хотят картофелехранилище строить на Заводской. Каждую картошечку будут мыть, сортировать и фасовать – не вручную, конечно, а на автоматической линии.
– Это как в овощном магазине такая лента ползет с картошкой? – Танюшке вспомнился агрегат, который доставлял покупателям картошку из недр овощного магазина на проспекте Ленина. Нужно было подставить бумажный пакет, и картошка сама в него засыпалась. В детстве Танюшке казалось, что это какое-то чудо.
– Да, вроде того, – опять улыбнулся Петр Андреевич. – Так вот, переводчик на время строительства им, конечно, нужен. Не на пальцах же с нашими инженерами объясняться. Строительство закончат года через полтора, где-нибудь к концу 89-го. А там все идет к тому, что разрешат создавать совместные предприятия без специальной регистрации… Так что отдыхай пока до осени, в себя приходи после диплома. А в сентябре приступишь, я уже почти договорился…
В эту минуту Танюшка подумала, что Петр Андреевич ей ну вот как отец и даже больше. Потому что была в их отношениях какая-то особая нежность, отцовская, наверное, хотя настоящего своего отца она не видела почти двадцать лет и помнила из раннего детства только одну картинку, как он входит в дом в спортивном костюме с ведром свежей картошки.
Картошка. Петр Андреевич все за нее решил с этой картошкой, значит, так тому и быть. Распределение в деревню ей тем более не грозило, это только те, кто вовремя не подсуетился и не вышел за кого-нибудь замуж, могли загреметь на три года в какую-нибудь Кестеньгу, в которой из мужчин один престарелый почтальон. Даже отличницы могли, дуры очкастые. Потому что, вместо того чтобы устроить свою личную жизнь, просидели над тетрадками пять лет. И какой в этом смысл, если отличная учеба все равно ничего не решает? Как там им сказали в напутствие, государство учило вас бесплатно пять лет, теперь вы должны отдать долг государству.
Маринка тоже не поедет в деревню. Во-первых, у нее есть муж, а во-вторых, ее оставят на кафедре. Деньги там, конечно, небольшие, но можно защитить диссертацию, если уж очень хочется. Хотя зачем Маринке диссертация? У нее муж устроился на силикатный, зарабатывает хорошо и вообще хочет, чтобы она дома сидела со своим диабетом. Дом большой, требует ухода, бабушка тем более умерла, зимой похоронили. А Маринка говорит, что дома сидеть скучно и что финноугроведение вообще интереснейшее занятие…
А вот что конкретно интересно Танюшке, она так для себя и не решила. Обед готовить вообще-то было ей интересно, тем более что готовить приходилось буквально из ничего. Магазины оскудели даже в Москве и Ленинграде, как рассказывала Вероника Станиславовна, не было даже мыла, не говоря о колготках. Из разговоров, слышанных у Ветровых, Танюшка уяснила, что вроде бы Рейган попросил короля Саудовской Аравии снизить цены на нефть, а в результате СССР потерял две трети валюты, и все планы наши пятилетние провалились. Петр Андреевич считал, что страна так или иначе должна меняться. Даже Цой понимает, что нужны перемены, а мы, что ли, нет? Именно так и сказал, Танюшка хорошо запомнила. Как раз Восьмое марта отмечали у старших Ветровых, и Танюшка, то и дело отвлекаясь на Майку, все же краем уха ловила, что говорил Петр Андреевич.
– Мы опоздали с реформами: уже выросли свои национальные элиты, хозяйственные комплексы, свои политические, культурные институты. То есть нации оформились. Нужна децентрализация.
– Вплоть до выхода из Союза? – еще спросил Сергей.
– Да. В брежневской Конституции черным по белому написано, что республики Союза обладают суверенитетом и правом выбирать: оставаться им в Союзе или нет. Это было записано на перспективу! А я так думаю, момент мы уже проморгали.
– Ну это ты, отец, загнул!
Танюшка тогда еще внутренне содрогнулась, что же такое они говорят и разве можно представить, чтобы рухнул Союз… Ну да бог с ними, с этим Союзом, валютой и общественными науками тем более. Научный коммунизм сдали еще зимой, и лучше о нем забыть теперь навсегда.
Так вот, Танюшка увлеклась выпечкой, мука в продаже еще была, яйца исправно несли мамины куры на силикатном, особенно хорошо удавались пироги с зубаткой – это такая хитрая рыба, что выглядит мясистой, а на сковороду не положишь, растечется лужицей, и есть нечего, но в пироги зубатка годится. Еще случалось сделать винегрет, иногда и без зеленого горошка, целыми кастрюлями она делала этот винегрет, и Майка ела с аппетитом, ей особенно нравилось выклевывать оттуда соленые огурцы. Хотя мясо так или иначе удавалось достать, иногда Сергей покупал мясо на рынке, дорого, конечно, но он без мяса не мог, да и Майку надо было чем-то кормить…
Танюшке почему-то было неизмеримо хорошо именно сидеть на лавочке рядом с Петром Андреевичем, слушать про это картофелехранилище, нет, просто слушать, как он ей что-то рассказывает. О чем? О перспективах совместных предприятий, например, которые вот-вот откроют, и тогда переводчики будут просто нарасхват и можно будет кататься в Финляндию за здорово живешь. Танюшка в Финляндии так до сих пор и не бывала, только слышала, что страна эта почти стерильная и что там есть все, даже денежные автоматы, которые выдают валюту по банковской карточке, а еще там есть тампоны для этих самых дней, что женщины там почти не красятся. Ну, Танюшка, предположим, тоже не красилась, зачем, если и так красивая. А вот в Финляндии считается, что женщина имеет право быть некрасивой, и ее нельзя за это осуждать, потому что она равна с мужчиной. Это вроде бы называется феминизмом, и вот этого как раз Танюшка решительно не понимала. У финнов же всего полно в магазинах, и косметики, и шмоток всяких, как тут можно быть некрасивой? Вон, Веронике Станиславовне, например, целых пятьдесят лет, а она какая красивая! Правда, Вероника Станиславовна каждый год отдыхала в Карловых Варах, и работа у нее не пыльная вовсе, не то что у Танюшкиной мамы…
Когда Сергей приехал забрать ее из этого университетского дворика, ей ужасно не хотелось покидать скамейку в сени тополей. Она бы так сидела до самого вечера и слушала еще Петра Андреевича. Однако, с усилием поднявшись навстречу Сергею, она сказала с некоторым даже хвастовством:
– А я буду работать в картофелехранилище.
– Это что же, народ и партия едины? – ехидно спросил Сергей.
– Какая еще партия?
– Коммунистическая, другой у нас нет. Я говорю, решила крепить пролетарскую закалку?
– Да я переводчиком ее устрою, – отозвался Петр Андреевич. – Финны у нас картофелехранилище проектируют.
– Вот уж без тебя, батя, никак. Спасибо, конечно, но я бы и сам…
– Да что ты сам? – Петр Андреевич ответил с некоторым раздражением и, кажется, даже плюнул. – В школу ее отправишь? Приличные места давно заняты.
Однако пока впереди были отдых и давно обещанная поездка к морю. Оставалось только навестить маму перед отъездом, в последнее время Танюшка почему-то острее стала чувствовать разлуку с ней, хотя предстояло расстаться всего-то на две недели.
Время на силикатном заводе тянулось заметно медленней, чем в городе, а то и вовсе стояло на месте. Домики, утопающие в сирени, и ленивые собаки, полеживавшие в пыли без дела, навевали сонное состояние пасторали тем, кто не знал слободской жизни изнутри, не городской и не сельской, им слободка казалась образцом деревенской идиллии с пестрыми курами на переднем плане. Впрочем, пейзаж портил пьяный мужик, мирно дремавший прямо на остановке, заняв всю лавку.
Танюшка застала маму во дворе на грядках, в огородных чунях и с руками по локоть в земле. Резиновые перчатки мама наотрез отказывалась надевать, потому что не барыня какая, эта грязь чистая, без химии. Однако обнять такими руками Майку мама не решилась, чтобы не испачкать ей платьице.
В три года Майка еще очень плохо говорила, многие даже думали, что она говорит по-фински, потому что ни слова нельзя было разобрать в ее гугуканье, и по этой причине Вероника Станиславовна ее как будто не то чтобы не любила, но вела себя с ней, как чужая строгая тетя, постоянно одергивая и поучая, а Майка от этого хныкала… Зато Танюшкина мама была ей настоящей бабушкой, у которой всегда припрятано для внучки самое вкусное. А что девочка плохо говорит, так она же еще маленькая, подрастет – научится, куда денется-то? «Айно Осиповна, не сюсюкайте с ней», – сколько раз просил ее Сергей. «А с кем мне еще сюсюкать? Мы с ней на своем языке разговариваем». Мама даже просила отдать ей Майку, не сейчас, конечно, потом, когда в школу пойдет: «Трех девочек воспитала и четвертую потяну». Ерунда это все, конечно. Кто бы Майку на силикатный отдал?
– Думаешь, у меня сил меньше стало? Да больше, – мама подняла на плиту огромный бак, чтобы нагреть воды. – Про ум-то и говорить не стоит. Разве в юности кто соображает чего? Да ничего не соображает, когда одна любовь на уме. А когда она кончается, вот тут и разум приходит.
Танюшка думала иногда, почему мама больше не вышла замуж. Она ведь помнила по детству маму красивой. Однажды она потеряла маму в очереди за колбасой и тихо плакала возле кассы от страха. Женщины спросили ее: «А какая у тебя мама? Как одета?», но Танюшка только повторяла: «Моя мама самая красивая!», и тут из толпы вынырнула испуганная мама в фуфайке и клетчатом платке до бровей, в обычной своей рабочей одежде, и все женщины засмеялись разом. Смеялась даже толстая кассирша с золотым зубом и коком рыжих волос. Танюшка поняла, что они смеялись над «самой красивой» мамой, ну и дуры же они все, потому что ее мама была самой красивой даже в рабочей робе. Сейчас Танюшка вроде бы понимала, что женщина с тремя детьми никому не нужна. Охота кому воспитывать чужих девок? Ну так ведь дети вырастают и разлетаются кто куда, вон Настя застряла в своем Ленинграде и не появляется на силикатном вообще, даже на Новый год не приехала, а Катя недавно родила второго парня и снова в декрете… Только мама больше не была красивой, завод вот именно что высосал из нее все соки и оставил одну кожуру – так картофельные детки за лето успевают высосать большую картошку-мамку. И в этом была огромная вселенская несправедливость. Не по отношению к картошке, нет, хотя она тоже живая. В конце концов можно смириться с тем, что чужие люди стареют и скукоживаются на глазах. Но как могла состариться мама, добрая, безответная, которая никому на свете не делала и не желала зла?
Мама как будто перестала вообще что-либо понимать в жизни, стремительно менявшейся на глазах, и все повторяла, что хорошо ведь жили при Брежневе, хорошо, зачем вам надо было что-то еще менять? Ведь вы не помните, как жили после войны, поэтому и вещи беречь не умеете. Вот где у тебя, Танюшка, белый платочек? – Так вылез весь пух, мама, а что осталось, шариками скаталось… – Ну и принесла бы мне, я бы расчесала… Обязательно принеси, поняла?
На кухне и в прихожей при каждом шаге скрипели деревянные половицы, давно не крашенные, вытертые до первозданной желтизны в натоптанных местах и прикрытые тряпичными половиками в наивной попытке навести красоту. В гостиной мама недавно сделала ремонт, сама побелила потолок и поклеила обои, но и эта чистенькая комната с тюлевыми занавесками и геранями на окнах теперь как будто кричала о собственной бедности. Убогая клеенка на кухне, рогатая вешалка в коридоре – все эти приметы прошлой жизни цепляли глаз, и Танюшке было даже немного стыдно – то ли за то, что она собралась на море, а мама на море никогда не была и вообще не выезжала из своей слободки последние двадцать лет, то ли за себя, что она сама выросла в эдакой нищете. Танюшка случайно подслушала, как свекровь говорила Сергею, что от Айно Осиповны нищетой за версту тянет. Но это была неправда. От мамы пахло мамой. Пирогами, горьковатым печным дымом, косынка ее пахла духами «Дзинтарс» и лаком для волос «Прелесть», которым мама брызгала прическу по большим праздникам. Еще из детства Танюшка помнила вазелиновый запах маминой морковной помады, хотя мама уже давно не красила губы… А может, все эти родные с детства запахи и были духом нищеты?
Провожая Танюшку с Майкой на автобус, мама еще несколько раз напомнила, чтобы Танюшка принесла ей пуховый платочек, который, честно говоря, уже давно выкинула Вероника Станиславовна, потому что в нем якобы завелась моль, и вообще, со слов свекрови, платок этот – полная гадость. Года полтора назад Сергей привез Танюшке из Риги шляпку из валяной шерсти, такой точно не было ни у кого – теплая и при случае можно было свернуть в клубок и засунуть в рукав пальто, очень, между прочим, удобно в гардероб сдавать…
Сергей вообще часто ездил в Ригу, однажды даже на праздники туда полетел. Ну надо так надо. А для чего надо? Для карьеры, наверное. Все-таки в Ригу – не в какой-нибудь там Пудож летать. Сергей говорил, что рижанки, конечно, не такие красивые, как русские женщины, можно даже сказать, совсем некрасивые, однако все с европейским шармом. То есть умеют себя преподнести. Одна беретик на ухо наденет, другая необычное колье подберет, третья вообще напялит мужской костюм и ботинки, причем видно, что костюм и ботинки мужские, а – глаз не отвести. Танюшка слушала, и ей казалось, что все эти рассказы про Ригу имеют один прозрачный подтекст: матрешка ты, Танька. Особенно остро она переживала насчет мужского костюма, потому что как такое могло быть, что Сергею нравились женщины, одетые как мужчины. Однажды, когда его не было дома, она даже примерила его костюм. Получилось крайне нелепо, никакого намека на фигуру, одни острые углы и прямые линии, не спасли даже каблуки. Нет, сняла решительно пиджак наброшенный…
– Танька, паспорт не забыла?
– Взяла.
Ей опять показалось, что простой вопрос Сергея, заданный совершенно напрасно на самом пороге, когда во дворе уже ожидало такси, означал вовсе не то, что вроде бы означал. Сергей попросту уточнил, такая ли она дура, как ему в последнее время представлялось. Потому что забыть паспорт дома, отправляясь на юг, могла вот именно что полная дура, у которой в голове одни финтифлюшки и которая по большому счету вообще не понимает, что такое отдых на юге.
– Точно взяла? – повторил Сергей.
– Да что я, дура, по-твоему?! – Танюшка взорвалась.
Майка захныкала.
– Танюха, да я же пошутил. А лишний раз проверить не помешает.
– Да проверяла я уже десять раз, и билеты проверила, и какие у нас места, наизусть знаю! Ты давай у себя на работе командуй, а здесь не смей!
– А чего так?
– Здесь я хозяйка, понятно?! – она и не думала шутить. И не понимала, как может быть иначе, если она в своем доме большуха, которая верховодит.
Майка хныкала уже без причины, просто оттого, что на нее сейчас мало обращали внимания. Танюшка только жалела, что ей нельзя точно так же захныкать, именно этого ей хотелось всякий раз, когда Сергей ее откровенно попинывал, пусть даже он потом говорил, что просто пошутил.
Когда тронулся поезд, немного отпустило. Ей показалось, что вместе с пейзажами родного города в окне уплывают прочь мелочные обиды и вся та несуразица, которая разрушает радужные ожидания счастливой жизни. За чередой гаражей потянулась свалка мусора возле самого железнодорожного полотна, затем забор, исписанный похабщиной, а дальше – убогие окраины, которые не могла скрасить даже буйная зелень палисадников. Серые шиферные крыши, облезлые корпуса бараков, на некоторых еще сохранились лозунги «Наш труд – тебе, Родина!», потом полупустое пространство, разграфленное телеграфными столбами с намеком на какой-то четкий план, от которого почти уже ничего не осталось. Танюшке вспомнилось, как осенью восемьдесят второго ездили в колхоз на картошку. Поля лежали за озером, километрах в десяти от последней живой деревни, а вокруг вдоль дорог шагали такие же точно столбы, и только они одни свидетельствовали о том, что этот край обитаем, ну еще каждое утро откуда ни возьмись возникал тракторист, и его железный конь поднимал из земли ровные борозды. Танюшка тогда впервые задумалась о том, что вот есть в нашей стране большие и малые города, в которых плохо ли хорошо ли течет жизнь, вокруг городов есть деревни, в них тоже своим чередом идет жизнь, а вот в пространстве между деревнями вообще почти что ничего нет, странная пустота на многие километры вокруг. И в этой пустоте растет одна картошка, а это значит… Что это значит? Танюшка так и не смогла сформулировать даже для себя.
– В Латвии такое невозможно, – сказал Сергей.
– Что? – очнулась Танюшка.
– Я имею в виду мусор вдоль дороги и вообще…
– Возьми меня когда-нибудь с собой в Ригу, – сказала, глядя в окно, Танюшка. Ей хотелось этого уже давно, и она еще ждала, что Сергей когда-нибудь предложит ей сам, но то сессия случалась, то Майку было не с кем оставить. А теперь вроде бы жизнь входила в новое русло.
– Подрастешь – возьму, – ответил Сергей.
Поезд мерно потряхивало, колеса стучали ритмично: на-юг, на-юг, на-юг, на-юг… Хотя до юга было еще очень далеко, за окном тянулась чересполосица лесов и полей, которая на бюрократическом языке называлась Нечерноземьем и где, следовательно, ничего не росло, кроме картошки.
Ближе к ночи к ним в купе на какой-то промежуточной станции подсела округлая конопатая молодуха с белесыми ресницами. Буркнув в ответ на приветствие, она тут же разложила на столике обильную снедь и принялась за трапезу, наворачивая сало с зеленым луком. Ела она жадно и некрасиво, как бродячая собака, стараясь быстрей проглотить кусок, пока никто не отнял. Танюшке вскоре стало по-настоящему противно, и она уставилась в окошко, хотя за ним тянулся тот же монотонный унылый пейзаж. Наконец молодуха, вытерев салфеткой жирные пальцы, зачем-то сообщила:
– К мужу еду, в Тарасовку. Там сад, яблоки растут, крыжовник. Лето погуляю, дак и забеременею, гляди.
Танюшка не нашлась, что ответить. А молодуха между тем продолжала, что муж у нее военный, а она работает почтальоном, и познакомились они в воинской части, в которую она почту приносила: «Гляжу, говорит, какая пухленька почту приносит, – решил жениться». Танюшка только про себя удивилась, неужели кому-то могла понравиться конопатая девка, причем настолько, что он сразу решил жениться.
– А ты сама-то замужем? – спросила молодуха.
– Да, вон муж на верхней полке.
– Это хорошо. Муж нынче – это целое состояние. А то еще рожают без мужа… Твоя дочка, что ли? – она кивнула на Майку, которая спала, раскинувшись, за спиной у Танюшки. – Красивым везет, не то что нам, обычным людям. Мы-то уже полгода живем, а деток не получается. Вот я и подумала: в Тарасовке погуляю на свежем воздухе. У свекрови там дом, летом можно прямо на веранде спать…
К полуночи молодуха кое-как укомкалась и засопела. Поезд катил на юг, равномерно стуча колесами, а Танюшке все не спалось. Под боком вертелась Майка – она спала беспокойно, вагонные простыни отдавали сыростью, из туалетов тянуло мочой даже через двери купе. Наконец Танюшке вроде бы удалось впасть в поверхностное, чуткое забытье, как вдруг на грудь навалилась такая тяжесть, будто какая-то большая черная кошка придавила ее к полке, впившись когтистыми лапами в ключицы. Вскрикнув, Танюшка вскочила. Никакой кошки в купе не было. У стенки свернулась калачиком Майка, на соседней полке мирно посапывала молодуха, и ее обильная грудь стекала вниз сдобным тестом. Наверху спал Сергей, прикрыв лицо журналом. Танюшку тошнило, грудь сдавливали цепкие кошачьи когти, мешали дышать. Она вышла в коридор, там, возле туалета, было приоткрыто окно, все прочие были задраены наглухо еще с зимы. А в это окошко, скорее даже в небольшую щель, затекал прохладный ночной воздух. Устроившись возле этой щели, так, чтобы поток свежего воздуха бил прямо в лицо, Танюшка жадно дышала, пытаясь прогнать дурноту.
Мимо проплывали сонные полустанки с крошечными домиками, иногда охрипший голос что-то вещал из динамика, но смысл сказанного оставался неясен, как и прочие смыслы ночи, даже самой светлой. Ночь оставалась временем одиночества, когда хотелось наконец что-то понять о самой жизни, потому что именно ночью умирали суетные цели, и тогда именно должно было проступить что-то очень большое. Но что?
Хлопнула дверь туалета. В тамбуре появилась сухенькая женщина в цветастом халатике. Танюшка не заметила, когда она успела попасть в туалет – должна же была пройти мимо нее, но это сейчас было и вовсе безразлично, Танюшке хотелось только прогнать эту дурноту. Может быть, ее попросту укачало?..
– Зависть тебя душит, – сказала эта женщина, остановившись возле титана с кипятком для чая. – Из-за нее и жизни не видать.
– Какая еще зависть? – Танюшка пыталась выкарабкаться из своей дурноты.
– Черная. А ты чего ожидала, красивая? – усмехнувшись, она прошла дальше по коридору, не оборачиваясь, как будто и обращалась не к Танюшке, а вообще ни к кому.
Чего она, в самом деле, ожидала? Не от этого лета, а вообще от того, что называлось взрослой жизнью? Зеленых прудов с лодочками лилий, прогулок по темным дубравам под сочными синими небесами, красных башмачков в руках принца, одетого в камзол, расшитый люрексом и кружевом? Конечно, нет, она никогда не была наивной дурочкой, которая просиживала юность в библиотеке, ожидая, что все это однажды возьмет да грянет. И все же хотелось чего-то особенного, отличного от нынешнего семейного счастья, протекавшего на фоне серых типовых новостроек и заплеванных вонючих подъездов. Вокруг не находилось ничего по-настоящему красивого. Даже то голубое платьице, которое Катя сшила для Майки из дешевой ткани по выкройкам из рижского журнала, получилось хорошеньким, но быстро мялось… И вся жизнь оказалась шитой далеко не шелками, а суровыми нитками советского производства. Танюшка так и стояла на своем полустаночке, в стороне от суетных событий, в которые с головой были погружены окружавшие ее люди. Она вдруг представила, что вот именно стоит на полустанке в накинутом на плечи цветастом платочке. Зачем платочек? А чтобы издали было заметно, что она там стоит. Платочек яркий, привлекательный. Но за руку цепляется Майка, и никуда ты не рыпнешься, как ни старайся.
Странная обида на судьбу поднялась темной щукой с илистого дна. Тоска. Tuska. Танюшка думала, что «тоска» по-фински будет почти как по-русски, и только недавно узнала, что tuska – не тоска, а боль, но это ведь очень близко по смыслу. Танюшка сама понимала, что не стоит ей жаловаться, что живет она благополучнее многих, и все же вовсе не так, как жизнь сулила ей в самом начале. Который год подряд обыденное, в общем-то, серое как дождь существование. Ну а что должно было состояться для нее по-настоящему, она и сама не могла объяснить. Что-то вокруг, конечно, происходило, но вот именно что ничего особенного. Как всегда.
Море на первый взгляд казалось слишком суровым для южного моря, зеленовато-серым в самый яркий день, без того бирюзового оттенка, каким обычно изображалось на картинках. Пляж пансионата «Горизонт», который любезно принял их в первый же день, был усеян человеческими телами и напоминал противень с булками, вылепленными весьма неумело, кое-как. Раздетые люди, щеголявшие раскормленными телами, намеренно обнажали то, что следовало бы скрывать – водянистые животы, жирные ляжки и воланы на талии. Танюшке было даже немного стыдно раздеться в первый раз, чтобы подставить солнцу кожу, которая казалась снежно-белой на фоне красновато-бронзовых тел. Едва сняв сарафан, Танюшка ощутила на себе любопытные взгляды – прямые или кинутые исподтишка, из-под дырчатых широкополых шляп или козырьков пляжных кепок. Ее разглядывали, как античное божество, и она ощутила себя совершенно голой под наглыми мужскими и ревнивыми женскими глазами. Кавказец с ногами волосатыми, будто у самого черта, и лысым черепом, откровенно причмокнул, щелкнув в воздухе пальцами:
– Ай, красывый девушка. Хочешь, шубу тебе куплю? Прямо сэйчас пойдем…
– Лето. Какая шуба? – Танюшке было все-таки лестно, что мужчины откровенно облизывались, глядя на нее, как на дорогой коньяк. Осторожно ступая по раскаленной гальке, она приблизилась к воде, и море лизнуло кончики ее пальцев большой ласковой собакой.
Ее тут же затянула в свою пучину огромная лень, разлитая в самом воздухе. В первый день она еще думала, что нужно будет непременно сходить в горы, покататься на лошадях – на набережной турагенты за руки тянули к себе отдыхающих, однако к вечеру уже сделалось все равно и вот именно что лень нагружать себя чем-то еще, кроме купания и лежания на пляже. А вокруг продавали все, что только можно продать – безвкусные поделки из глины и ракушек, сиреневую помаду, вылепленную из мыла или еще неизвестно чего, пластмассовые шлепанцы и прочий аляповатый самопал, шашлыки из устриц и домашнее вино. Все это отдавало суррогатом, цыганщиной, явным обманом, причем никто уже и не стеснялся обманывать, главное – всучить товар наивным простакам с Севера, которые легко велись на яркие штучки, изможденные жарой. Таксисты заламывали цены, вечером меньше чем за два счетчика ехать отказывались, хамили, грубили, причем щедро, не скупясь, поэтому вечерами лучше было сидеть в своем пансионате. Вдобавок там кормили три раз в день, в обед даже настоящие сосиски давали с картофельным пюре и зеленым горошком, а в городе стояли длиннющие очереди в пельменную и чебуречную. И хотя Майка непрестанно ныла по малейшему поводу и не хотела доедать сосиски, Танюшка отдыхала – и от очередей, и от стояния у плиты.




